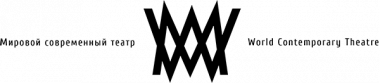
Обозрение театрального сезона в Сербии я начну с рассказа о фестивале «Дезире» в городе Суботица. «Дезире» - фестиваль альтернативного/не конвенционального театра, который проводится уже 8 лет (за эти восемь лет мы имели возможность ознакомиться и с блестящим спектаклем русской труппы АХЕ из Санкт-Петербурга). В этом году фестиваль получил название «Бордерлайн».
Директор и основатель фестиваля Aндраш Урбан, одновременно является и одним из наиболее значительных в регионе авторов, его фестиваль собирает состоявшихся художников с территории бывшей Югославии и всего региона. Вот как он объясняет название фестиваля этого года: Mы живем на территории, где слово «граница» и в географическом смысле является наиболее важным. Мы постоянно говорим, что это своего рода граница Балкан и Eвропы, по сути, здесь заканчивается официальная Eвропа, но в то же время, хотя мы и находимся на распутье, на переходе, эта граница, в условиях мигрантского кризиса укрепляется, и если мы заглянем в будущее, то увидим довольно мрачную картину. Само название фестиваля ассоциируется с линией границы, красной линией, которую следует или не следует переступать. Но преимущественно, слово «бордерлайн» является термином, который в неконвенциональной психологии означает специфическое духовно-ментальное состояние человека, связанное с проблемой его самоидентификации, поведения, которое из конвенциональной перспективы подлежит осуждению. В художественном смысле это призыв к исследованию такого состояния, к неприятию предлагаемой нам конвенции, к тому, чтобы задать себе вопрос о самоидентификации, о нашем поведении, об отношении к не конвенциональной реальности. В центральной части фестиваля представлены спектакли различных театральных течений, фестиваль фундаментально занимается образованием своей публики, как посредством самих спектаклей, так и посредством дополнительных программ «Дезире академии» - цикла встреч с авторами-участниками фестиваля и их мастер-классов. По изобретательности самой концепции, решительности в стремлении представить свои произведения качественно и нестандартно, без каких-либо ограничений анализировать актуальную реальность, этот фестиваль, без сомнения, является одним из самых конкурентоспособных не только в Сербии, но и в целом регионе.
Один из наиболее выдающихся в стране театров, белградский театр ''Aтелье 212'' oтметил 60-летие своего существование премьерой спектакля «Дети радости» автора Милены Маркович в постановке Снежаны Тришич. Mилена Маркович является одним из наших выдающихся писателей, ее пьесы имеют собственную мифологию и развиваются по логике сновидений, они всегда обращают нас к далекому прошлому, чтобы открыть нам глаза на будущее. Режиссер Снежана Тришич сознательно выстраивает художественный мир Милены Маркович внутри собственного замысла, давая ему, таким образом, специфическое обрамление при поддержке, действительно, блестящей игры всего актерского ансамбля.
В начале сезона мы смотрели премьеру спектакля «Окорбление народа в двух частях» Слободана Селенича в постановке Андраша Урбана в суботицком Народном театре. Действие спектакля, происходит в югославской тюрьме после Второй Мировой войны, в которой вместе сидят заключенные, принадлежавшие к враждовавшим сторонам,решительно вводит нас жесткую конфронтацию с нашими собственными расколами, с отношением к власти, к тому, что является общественным, а не личным, в конце приводя нас к личному сопереживанию с жертвами, к эмпатии.
К слову о жертвах и эмпатии, сезон был открыт спектаклем «Гамлет» в Югославском Драматическом театре в постановке македонского режиссера Aлександра Поповского, с одним из наших ведущих актеров Небойшей Глоговацем в роли принца Гамлета. Это театр в театре, это экзистенциальный беккетовский Гамлет, несущий на плечах тяжелое бремя, которое он делит с публикой, со всеми нами.
И наконец, о самом главном: 50-летие своего существования отметил фестиваль БИТЕФ. Битеф, безусловно, является важнейшим международным фестивалем на территории бывшей Югославии и в регионе западных Балкан. Его основателями были Йован Чирилов и Мира Траилович. В геополитическом смысле он был необычайно важен для тогдашней титовской Югославии, он буквально стал вратами между Востоком и Западом. Во времена холодной войны это было место, где художники, прибывающие с востока могли видеть наиболее значительные западные постановки и наоборот. Битеф был местом встречи par exellance. На нем были представлены такие художники как Роберт Вилсон, Гротовский, Барб, Любимов, Брук и многие другие. Его подзаголовок гласил «фестиваль новых театральных тенденций» и он действительно был таковым.
Сегодня, когда отмечается 50-летие его проведения, конечно, нет больше классического разделения на восток и запад, мир живет по иной парадигме, Битеф стал фестивалем, который открыт самым разнообразным драматическим формам. Главной специальной программой Битефа в этом году стал 28-ой конгресс международной ассоциации театральных критиков, в котором приняло участие 100 критиков из 40 стран всех континентов, за исключением Aвстралии и Новой Зеландии. В рамках конгресса прошла международная конференция по теме «новый и глобальный театр - oт потребления до художественной необходимости’’, идеей которой стало исследование того, каким образом в современной культуре мы можем себе представить эту модернистскую концепцию нoвума*, кoторая была адекватна исполнительской практике 60- и 70-х годов 20-го века.
Мы живем в мире, в котором постмодерн остался в прошлом, хотя мы видим его рецидивы, - говорит художественный директор фестиваля Иван Меденица. – Нашим замыслом было исследование с помощью этой теоретической платформы мнений нoвума в современном теарте, и именно таким образом сформулированная тема, указывает, среди прочего, на то, что глобальный театр никогда не является глобальным. В области культуры вы всегда должны заботиться о культурных особенностях, своеобразии. То, что является новым для одной среды, может не быть новым для другой. И опять же, это не есть некий западный гегемонистский проект, требованиям которого должно сегодня соответствовать все.
Во всяком случае, Битеф последовательно продолжает свою миссию исследования новых театральных течений, одновременно размышляя о современном общественно-политическом времени.
По этой «карте» театральных премьер и значительных юбилеев, отмечаемых с начала театрального сезона до момента написания этого обозрения, можно проследить путь развития сербского театра, в первую очередь, благодаря разнообразным средствам и аутентичному художественному почерку, исследовать существующую действительность, а для такого исследования бывает необходимо обратить взгляд в далекое прошлое, чтобы из той точки, в которой находимся сейчас, мы могли проецировать будущее.
Перевод Светланы Луганской
1. Опция «все включено»: Иво ван Хов - Комеди франсез / Les Damnés («Проклятые »)
Что: Один из крупнейших современных режиссеров, старейшая и единственная постоянная труппа Франции и текст Лукино Висконти. Универсальный подарочный набор от Камеди Франсез для тех, кто хочет увидеть умный театр, но не хочет рисковать своим временем ради экспериментов
Где играют:
Comédie Française, Париж
(Страница спектакля на сайте Comédie Française на английском: http://www.comedie-francaise.fr/spectacle-comedie-francaise.php?spid=1531&id=517)
Когда :
с 24 сентября по 13 января
Зачем смотреть:
Спектакль «Проклятые» в постановке бельгийца Иво ван Хова с актерами Комеди Франсез подавали как главное событие последнего Авиньонского фестиваля. Парижская труппа не приезжала в Авиньон более двадцати лет и вот триумфально вернулась в этом году с постановкой по сценарию фильма Лукино Висконти «Гибель богов», показывающего становление немецкого фашизма. Организаторы подтверждали: естественно, этот сюжет Иво ван Хов выбрал неслучайно. Многозначительно кивали: вы посмотрите, что творится в мире. Во Франции - Марин Ле Пен, в других странах свои «любимые авторы», один оголтелее другого. Билеты на остро злободневную постановку продавали не больше двух в одни руки; в конце решили приписать, что спектакль содержит сцены насилия. Словом, ажиотаж. Для тех, кто не прорвался в июле во двор Папского дворца, «Проклятых» теперь играют в классических условиях помпезного парижского зала Ришелье.
В центре сюжета - история самоуничтожения династии сталелитейных королей на фоне зарождения нацизма в Германии 30-х годов. Для защиты своих интересов семья Эссенбек вступает в союз с режимом, хладнокровно устраняя тех своих членов, кто отказывается симпатизировать ультраправым. Побеждает в этой борьбе за власть молодой Мартин - неврастеничный сын баронессы, склонный к педофилии, но благополучно избегающий ответственности благодаря заступничеству матери. Именно с его образом связана приписка о жестоких сценах спектакля, которые, впрочем, вряд ли шокируют тех, кто видел фильм 1969-го года. Там Мартин развращает племянниц, доводит до самоубийства еврейскую девочку, а затем и вовсе насилует мать. Иво ван Хов эти сцены сохраняет, но делает их более условными, чем у Висконти, - страшно, но взгляд отводить не приходится.
Доносы, предательства, инцест и убийства превращают «Проклятых» в полноценную шекспировскую трагедию. Постепенное истребление друг друга членами семьи Эссенбек тесно переплетается с историческими реалиями: толчок череде убийств дает известие о поджоге Рейхстага в феврале 1933 года, с кем-то из героев расправляются во время Ночи длинных ножей, другие отправляются в концлагерь Дахау. Исторический фон также присутствует в виде архивных записей. Их показывают на гигантском экране, размещенном по центру сцены.
Этот экран - одна из главных находок Иво ван Хова в «Проклятых», крупный план - один из ключевых его приемов. Камера оператора, постоянно присутствующего на сцене рядом с актерами, скользит по их лицам, когда они наблюдают Мартина, влезшего на огромные каблуки и имитирующего Марлен Дитрих, или слушают обличения бывшего вице-президента концерна, который из-за своих либеральных убеждений вынужден бежать из страны. На экране периодически возникают искаженные ужасом гримасы убитых, которые пытаются выбраться из гроба, находящегося тут же, в правой части сцены. Вот уж что действительно можно отнести к категории шокирующих образов. В конце каждого акта актеры выстраиваются на сцене, молчаливо разглядывая зрителей. Камера медленно переходит с их силуэтов в зал, и в какую-то минуту, придавленный агрессией звучащего фашистского гимна, переходящего в Рамштайн, ты понимаешь, что смотришь на экране на самого себя, пассивного участника нарастающего безумия.
Поскольку без спойлеров не обошлось, можно позволить себе еще один, но серьезный, потому чувствительным лучше не дочитывать. В конце спектакля главный злодей или лучше - один из немногих выживших злодеев - Мартин, обмазанный пеплом жертв, дает пулеметную очередь по залу. Говорят, после июльского теракта в Ницце в Авиньоне всерьез обсуждали, оставлять ли эту сцену на время фестиваля. В итоге спектакль шел без изменений, таким и остается. Страшный, но со вкусом.
2. Опция «критиканы» : Кристиан Люпа - Томас Бернхард
Что: Любимый Европой 73-летний польский режиссер Кристиан Люпа и традиционно сопровождающие его тексты скандального австрийского автора Томаса Бернхарда. Последний умер в конце 80-х, но до этого успел здорово наобличать соотечественников. В частности, устами своих героев утверждая, что в современной Австрии больше нацистов, чем во времена Гитлера. Ударная доза восточноевропейской критики. Хороший классический театр с текстом и костюмами.
Где играют:
Place des héros («Площадь Героев») - La Colline, Париж - с 9 по 15 декабря
Déjeuner chez Wittgenstein («Обед у Витгенштейнов») - Théâtre de la ville, Париж - c 13 по 18 декабря
Зачем смотреть:
Ретроспектива режиссера Кристиана Люпы вписана в программу одного из главных французских театральных фестивалей - Осеннего фестиваля в Париже. Тянется он с начала сентября по конец декабря, а потому неудивительно, что туда втиснули аж три спектакля польского мэтра : «Деревья под сруб», «Площадь Героев» и «Обед у Витгенштейнов». Перечисление не по новизне - «Обед», тот вообще создан двадцать лет назад. Во французских программках спешат объяснить, что в Польше репертуарный театр и постоянные труппы, потому играют, пока играется, отсюда такое пугающее долголетие, - а по ближайшим датам спектаклей в Париже. Можно так и погружаться: побродить среди деревьев, выйти на площадь Героев и отправиться на обед к Витгенштейнам. Тем более, что все происходит в Вене. Где же еще, когда все три постановки сделаны по текстам любимого автора Люпы - австрийца Томаса Бернхарда.
Писатель, поэт и драматург второй половины двадцатого века Бернхард не ходил далеко за вдохновением, предпочитая описывать австрийское послевоенное общество. Описание у него выходило такое критическое и злое, что на родине его неоднократно обвиняли ни больше ни меньше в оскорблении австрийской нации, начинали против него судебные процессы, изымали из продажи тиражи. Публикация «Деревьев под сруб» в 1984 году, например, расстроила известного современника Бернхарда - композитора Герхард Ламперсберга, который узнал себя в одном из главных персонажей и обвинил писателя в клевете. В 1988 году, когда вышла «Площадь Героев», приуроченная к пятидесятилетию аннексии Австрии гитлеровской Германией, обидевшихся было уже намного больше: один из персонажей пьесы утверждал, что в сегодняшней Вене больше нацистов, чем в 1938 году, а ее жители всегда были антисемитами, таковыми и останутся. Общее настроение своих книг сам писатель емко сформулировал во втором названии к «Деревьям» - «Раздражение».
Выбор польским режиссером текстов едкого австрийского автора, высмеивавшего лицемерие и фальшь соотечественников, не удивляет. На родине у Люпы победившие на недавних выборах националисты развернули активную деятельность и предлагают запретить аборты, а в один из старейших театров страны - Польский театр во Вроцлаве, с которым сотрудничал Люпа, спустили сверху созвучного новому курсу директора. Словом, более-менее понятно, почему человек выбирает пьесу, где место действия - площадь Героев в Вене - та самая, где австрийцы приветствовали Гитлера, объявлявшего об аншлюсе; или вместе с Бернхардом решительно рубит «мертвые деревья» - представителей артистического круга в Австрии 80-х годов. Интереснее другое - как Кристиан Люпа эти тексты ставит. Представить, как можно сделать спектакль из двухсот страниц внутреннего монолога, написаного без деления на главы и абзацы, с характерным для Бернхарда стилем-заклинанием, состоящем из повторений одних и тех же фраз («подумал я в своем глубоком кресле» - в миллионный раз скажет герой «Деревьев») - само по себе неплохое упражнение на развитие воображения. Кристиана Люпу эти частности, похоже, не смущают: на его счету уже не меньше десятка постановок по текстам желчного австрийца. Больше того - вдохновляют, иначе как объяснить, что польский мэтр имеет склонность к длинным спектаклям («Площадь Героев» идет четыре часа, «Деревья» - четыре с половиной). Люпа сам же традиционно ставит для своих постановок свет и придумывает декорации. Огромное окно, из которого вернувшийся из-за границы старый профессор выбросится на площадь Героев, не выдержав груза прошлого; длинный стол, через который мечут друг в друга стрелы ненависти члены семьи Витгенштейн; холодные кожаные кресла, в которых сидят гости светского вечера, собравшиеся после похорон покончившей с собой актрисы. Это может быть Вена, а может быть и Париж, а может и вовсе Москва - ничто не сдерживает географии. Никаких спецэффектов нет. Люди в костюмах произносят текст, к тому же на непонятном польском или, как в случае с «Площадью Героев», литовском языке. Но произносят так, что потом французские газеты называют литовскую постановку главным шедевром 70-го Авиньонского фестиваля. Как так выходит, когда классический драматический театр, казалось, уже давно никому не интересен? Чтобы это понять, придется идти смотреть.
3. Опция «танец и окресности»
Что: Одноактные балеты одного из главных хореографов XX века - Иржи Килиана, возможно, последняя крупная партия хранителя традиций индийского танца Акрама Кхана и великий невозвращенец Михаил Барышников в роли Вацлава Нижинского. Все, что угодно, кроме балетных пачек.
Где играют:
Jiří Kylián. Три балета Иржи Килиана - Opéra Bastille, Париж - с 29 ноября по 31 декабря
(трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=uApjnD2iZ5k)
Until the lions («Пока львы») Акрама Кхана (Великобритания) - Théâtre de la ville, Париж - с 5 по 17 декабря (трейлер: https://vimeo.com/152153308)
Letter to a man («Письмо человеку») Боба Уилсона с Михаилом Барышниковым (США) - Théâtre de la ville, Париж - с 15 декабря по 21 января
Зачем смотреть:
Иржи Килиан: ретроспектива хореографа
Чешский хореограф Иржи Килиан стоит в одном ряду с крупнейшими фигурами современного балета - Мерсом Каннингемом и Уильямом Форсайтом. Каждый расширит этот список по своему усмотрению - Пина Бауш или Матс Эк, Анна Тереза Де Кеерсмакер или Триша Браун - но костяк из первых трех имен, наверняка, окажется неизменным. Больше двадцати лет Килиан возглавлял труппу Нидерландского театра танца, сделав ее известной по всему миру. Он же придумал организовать в ее составе старшую возрастную группу, пригласив артистов критического для балета возраста, « между сорока годами и смертью », как он сам когда-то определил. Говорят, восхищаясь способностью Килиана «видеть» музыку, Рудольф Нуриев однажды сказал, что у него «самые „золотые“ уши». Сегодня хореограф, который вот-вот разменяет седьмой десяток и уже поставил более сотни балетов, продолжает работать на нескольких континентах, от США до Грузии и Уругвая. В программе парижской Opéra Bastille - три коротких балета Килиана, созданные на разных этапах пятидесяти лет его творческой деятельности и изначально придуманные для родной нидерландской труппы: «Деготь и перья» (Tar and Feathers, впервые поставлен в 2006-м), «Прекрасная фигура» (Bella Figura, премьера в 1995 году) и «Симфония псалмов » (Symphonie de psaumes, создан в 1978). Описывать, что танцуют, глупо - каждый увидит свое, поэтому скажем лишь как: огромным хором тел или дуэтом; в классических рубашках-платьях и топлесс в развевающихся алых юбках-маках; под бой Стравинского или импровизации на фортепиано, которое на огромных паучьих ногах возвышается над артистами. Вся эволюция творчества чешского мэтра за один вечер.
Акрам Кхан: за милых дам
Лондонский хореограф с индийскими корнями Акрам Кхан объявил, что с 2018 года не будет появляться в собственных постановках, лишь изредка позволяя себе небольшие танцевальные партии. Его новый балет - Until the Lions, название дословно можно перевести как «Пока львы» - возможно, последняя возможность увидеть его на сцене.
Родившийся в семье выходцев из Бангладеша, Кхан с детства занимался традиционным индийским танцем катхаком, элементы которого позже стал использовать в постановках, сделав их особенностью своего стиля. В конце 80-х подростком он попал в спектакль Питера Брука по древней индийской поэме «Махабхарата», с которым два года гастролировал по всему миру. За несколько десятков лет с момента боевого крещения у Кхана появилась собственная труппа и около двадцати постановок, среди которых дуэты со звездой балета Сильви Гиллем и актрисой Жульет Бинош, когда та впервые решила примерить амплуа танцовщицы. Сегодня хореограф возвращается к знаковому для него тексту «Махабхараты», чтобы сосредоточиться на женских образах. Африканская пословица гласит: «история не завершена, пока львы не сказали свое слово». Львы у Кхана - это, собственно, женщины. В основе его балета - притча о принцессе, которая была похищена в день своей свадьбы. Лишенная чести, она убивает себя, чтобы после смерти вернуться в мир в виде женщины-воина и отомстить обидчику. Рассказывать эту запутанную трагическую историю Кхан будет, как водится, средствами современного балета с примесью катхака, в компании двух танцовщиц и четверых музыкантов. Премьера Until the Lions состоялась в январе в Лондоне. В конце этого года - начале следующего постановка гастролирует во Франции, нужно успеть: пока здесь, пока львы, пока Акрам Кхан…
Михаил Барышников: в свете Боба Уилсона
Спектакль Letter to a man - «Письмо человеку» - праздничное ассорти громких имен. Кто не среагирует на фамилию известного русского танцовщика, эмигрировавшего в США и дружившего с Бродским, заинтересуется, увидев в описании самого знаменитого режиссера Америки Боба Уилсона. Завораживающий свет (Уилсон, как известно, ставит его часами, не жалея свою команду), актеры с выбеленными лицами, движения в одной плоскости - кто видел созданные им в Москве «Сказки Пушкина», сразу понимает, о чем речь.
Это уже третья совместная работа Уилсона и Барышникова: до этого был проект «Видеопортреты», где Барышников оказался в компании Джонни Деппа, Леди Гаги и других преображенных американским режиссером знаменитостей, и спектакль «Старуха» (The Old Woman) по Хармсу. Теперь два стареющих мэтра взялись за дневники Вацлава Нижинского - именно этот текст лежит в основе «Письма к человеку». Записи, сделанные Нижинским в 1919 году, когда он уже находился в психиатрической клинике, обращены к Сергею Дягилеву. Танцовщика и импресарио связывали любовные отношения, и их разрыв, вероятно, послужил толчком к развитию болезни Нижинского. Барышников на сцене один, чем объясняется непривычно короткий для Уилсона хронометраж - чуть больше часа, танцует, гримасничает и принимает застывшие позы. Фоном, по-русски и по-английски, звучат вкрапления текста Нижинского. Словом, звенящий формализм, так любимый Уилсоном. А если что и непонятно - нестрашно, ведь согласно американскому режиссеру, поиски и есть главная задача искусства.
По сравнению с прошлогодними показателями развития театрального рынка Китая в 2016 году сохраняется относительно мощный импульс развития китайской театральной индустрии. Это может быть обусловлено несколькими основными причинами: во-первых, экономическими – за прошедшие 30 лет произошел резкий скачок в развитии, и, хотя в последние годы мы наблюдаем небольшой спад, мы все же можем констатировать поступательное расширение театрального влияния, главным образом воплощающегося в появлении различных драматических коллективов; во-вторых, произошел эффект воспитания театрального зрителя, в Пекине и Шанхае возникла стабильная театральная аудитория, которую составляет в большей части так называемый «класс белых воротничков»; в-третьих, благодаря распространению общенационального китайского языка (путунхуа), при котором почти исчезла сфера употребления диалектов; так, путунхуа превратился в язык театра, ставшего основным течением в современном искусстве. Таким образом, в китайской театральной индустрии начался феномен неравномерного распределения внимания между традиционной Пекинской Оперой и драматическим спектаклем. Хотя Пекинская Опера по-прежнему является культурным наследием, демонстрирующим зрителю изящное театральное мастерство традиционной школы, и так же продолжающим быть частью классического театрального репертуара, однако, случавшийся ранее (до 2015 года) «феномен Чжан Хуодинь (张火丁)» вряд ли сможет повториться. Так как в этом году исполняется 400 лет со дня смерти выдающегося драматурга династии Мин, господина Тан Сянцзу (汤显祖), знаменитые театральные династии Шанхая, до этого исполнившие множество спектаклей драматурга, в этот раз представили знаковую постановку «Четыре сна Лин Чуана (临川四梦)», продолжающую многовековую драматическую традицию, что стало для театралов настоящей «усладой для глаз».
В этом году театральная индустрия выглядит относительно более оживленной. В первую очередь, это выражается в деятельности Пекинских, Шанхайских и Тянцзинских театров как представителей театрального процесса наиболее развитых городов. На протяжении многих лет они организуют всевозможные (разнообразные?) театральные фестивали, например, Китайский фестиваль оригинальных постановок в Пекине, Театральный фестиваль в Нанлуогусяне (Пекин), Пекинский международный молодежный фестиваль театра, Тянцзинский театральный фестиваль имени Цао Юй (曹禺), Международный фестиваль искусств в Шанхае, Шанхайский фестиваль современного искусства и другие. Безусловно, стоит отметить театральные мероприятия и в других городах: Театральный фестиваль в У-Чжене, Шеньчженское биеннале современного театра. Параллельно с этими театральными событиями, в память о 400-летии со дня смерти У.Шекспира было поставлено немало его шедевров, в которых были задействованы лучшие театральные коллективы. Несмотря на то, что ставится много английских и иностранных пьес в целом, китайские произведения для театра также остаются популярными и востребованными; современные режиссеры обращаются к выдающимся фигурам как китайской, так и иностранной драматургии. В рамках Международного фестиваля малых театров Шанхайской Театральной Академии был специально организован Театральный фестиваль Шекспира, в котором были представлены 12 постановок, как самого Шекспира, так и современных авторов. Особенно хотелось бы отметить израильский спектакль «Деревня» и немецкий «Шулер».
Китайские драматические произведения также невозможно представить без чрезвычайно активного участия театральных династий Тайваня. К примеру, Стэн Лай (赖声川), известный «фестивальный» режиссер, благодаря которому возникло понятие «Шанхайская драматическая школа», также ставил пьесы на ведущих сценах Шанхая, в том числе, уже ставшего классикой «Остров сокровищ». Во многом схожа ситуация режиссера Мен Цзинхуэй (孟京辉), чьим постановкам сопутствовал немалый коммерческий успех, например «Мнение двух псов о жизни» - спектакль, поставленный практически по всей стране – и прошлогодняя постановка «Русалка мертвых вод», продемонстрировавшая первый китайский опыт «театра полного погружения». Феномен частных театров становится полноценным театральный бизнесом, к примеру, Кайсин Махуа 开心麻花(псевдоним, означающий «Веселый хворост чак-чак») поставил в Пекине, Шанхае более сотни классических и современных спектаклей, среди которых «Друг, которого всегда помнишь», «Тетя Ли Ча» и другие. Труппа Бао Ли (保利) в рамках русско-китайской творческой коллаборации представила спектакль «Служебный роман». «Серьезный театр» также является успешным примером популяризации национальной драмы – на постановку «Пекинский храм Фаюань», поставленный режиссером Тян Чинсин (田沁鑫), невозможно было достать билеты как в Пекине, так и в Шанхае – даже этот отдельно взятый факт полностью доказывает, что театральная индустрия Китая процветает.
Гонг Баорон
Перевод с китайского Лена Лебедева, 2016.
Уже больше года в берлинском культурном сообществе кипят страсти. В прессе публикуются многочисленные открытые письма, интервью, обвинения, протесты. Что же происходит?
В прошедшем 2015 году управляющие культурной политикой Берлина решили не продлевать контракт на 2017 год с государственным интендантом театра Народная сцена Франком Касторфом (Frank Castorf). В последние 25 лет Франк Касторф, один из самых радикальных режиссеров Германии, являлся руководителем известного театра на площади Розы Люксембург. На протяжении многих лет театр находил все новые и новые художественные решения, иногда лучше, иногда хуже, но всегда направленные против духа времени, против мэйнстрима. Постановки театра всегда имели ярко выраженную политическую направленность, раньше других в нем стали обращать внимание публики на последствия постколониального миропорядка, соединили неолиберальные структуры правления с национализмом и фашизмом, исследовали различные общественные коллизии, произошедшие после 1989 года. «Народная сцена» была сама по себе произведением искусства. Да, но почему была?
«Была» в данном случае значит: действительно конец, finito. Так, по меньшей мере, видят происходящее наиболее резкие критики этого культурно-политического решения, следствие из которого не заставило себя ждать: преемник назван. Когда 24 апреля 2015 года правящий бургомистр Берлина обнародовал имя нового интенданта Народной сцены, полемика возобновилась с новой силой. То, о чем сплетничали в прессе и в театральных кафешках, стало непреложным фактом: в театральном сезоне 2017/2018 новым интендантом «Народной сцены» должен стать бельгийский куратор Крис Деркон (Chris Dercon), который до этого руководил музеем Современного Искусства (Modern Art) в Лондоне и, как не устают повторять его критики, еще ни разу не возглавлял какой-либо театр. Еще пока что действующая администрация Народной сцены быстро среагировала на происходящее: на крыше, где обычно находится баннер с анонсом текущего репертуара, висит плакат с одним словом – «Продано»!
Критики видят в персоне нового интенданта смену парадигмы, если не сказать эпохи. Крис Деркон реализовал в Доме искусств (Haus der Kunst) в Мюнхене с художником Олафом Элисоном (Olafur Eliasson) и хореографом Тино Сегалем (Tino Sehgal) довольно интересные проекты, а также сотрудничал с такими художниками, как Кристоф Шлингензиф (Christoph Schlingensief) и Эй Вэйвэй (Ai Weiwei), но все-таки театральным интендантом он никогда не был. Как может куратор начать работать с интереснейшим художественным театром? Что он забыл рядом с такими звездами, как Генри Хюбхен (Henry Hübchen), Милан Пешель (Milan Peschel), Мартин Вутке (Martin Wuttke), с такими великими актрисами и актерами, как Софи Ройс (Sophie Rois), Александер Шеер (Alexander Scheer) и Катрин Ангерер (Kathrin Angerer)? Что стоит за высказыванием земельного секретаря по культуре Берлина (а это второй человек после бургомистра по вопросам культурной политики) Тима Реннера (Tim Renner) когда он говорит в связи с происходящим, что мы должны «переосмыслить» «Народную сцену»?
Критики Деркона в пылу жаркой полемики отдают эти вопросы на суд общественности. Интендант почтенного «Берлинер Энсембель» (Berliner Ensemble) Клаус Пэйман (Claus Paymann) в открытом письме на имя правящего бургомистра Михаэля Мюллера (Michael Müller) громит секретаря по вопросам культуры Тима Реннера. Он, как считает Пэйман, не постеснялся допустить несколько совершенно позорных высказываний: «начиная с прямой трансляции премьер и до поднятия входной платы в театры и оперы». Теперь что же, из знаменитого театра «Народная сцена» сделают очередное местечко для проведения культурных мероприятий? «Будем надеяться, что кто-нибудь крикнет: «Это был розыгрыш!». Но никто пока что этого не делает. И такого рода критики более чем достаточно.
19 апреля интенданты Йоахим Лукс (Joachim Lux) - театр Гамбурга (Schauspielhaus Hamburg), Ульрих Куон (Ulrich Khuon) – «Немецкий театр» Берлина (Deutsches Theater Berlin) и Мартин Кушей (Martin Kušej) – «Резиденцтеатр» Мюнхена (Residenztheater München) обнародовали свою позицию в открытом письме, теперь уже на имя земельного секретаря по вопросам культуры Тима Реннера. «Общество, города и, слава Богу, культура, все пребывает в движении. К сожалению, это движение, которым вы, как ответственный политик, в данное время хотели бы управлять, ведет к разрушению, так как оно необратимо. Разумеется, мы должны иметь возможность дискутировать по вопросу: правильно ли то, что после «Шиллертеатра» (Schillertheater) и бывшей «Народной сцены Вест» (Volksbühne West) уже третий берлинский репертуарный театр – «Народная сцена Ост» - должен быть ликвидирован. В любом случае такие серьезные культурно-политические решения должны иметь основой открытую дискуссию, а не решаться росчерком пера на задворках политики. Превращение театра «Народная сцена» в многофункциональный театральный комплекс - это слишком серьезный поворот, мягко говоря, на наш взгляд, совершенно необоснованный. Особенно шокирует это событие тем, что «Народная сцена» вовсе не какой-то «прогнивший свинарник». Как раз, наоборот: он является одним из лучших национальных театров Германии международного уровня. К сожалению, все это для нового земельного секретаря по культуре ничего не значит».
В обоих письмах затронуты проблемы, являющиеся центральными в данной дискуссии. Существуют опасения, что Крис Деркон сделает из театра Народная сцена очередной многофункциональный театральный комплекс, в котором будет ликвидирована постоянная актерская труппа и откроется свободная сцена для гастролирующих групп. Однако подобных комплексов в Берлине вполне достаточно. «Геббель на берегу» (HAU Hebbel am Ufer), «Залы Софии» (Sophiensälen), «Берлинские фестивали» (Berliner Festspielen) являются прекрасно функционирующими театральными комплексами, которые привлекают в город международные фестивали и большое количество деятелей самых разных искусств с интересными программами. Несмотря на то, что культурная политика в Германии является прерогативой федеральных земель, министр культуры Моника Грюттерс (Monika Grütters) предупреждала о том, что нежелательно организовывать в столице структуры (организации культуры) дублирующие друг друга.
Очень подозрительными показались критикам высказывания Деркона в ежедневнике «Тагесшпигель» (Tagesspiegel): «Берлин, - говорит Деркон в одном из интервью, - имеет возможность попробовать такую форму экономии, где культура играет особую роль. «Мы можем поучиться у Барселоны, так как туризм - это совсем не всегда неудача. Мы имеем в Берлине три различных формы туризма: культурный, походный, низкобюджетный. Вот что я хотел бы соединить: развитие города, туризм, культуру и театр Народная сцена». Это довольно неубедительно звучит в смысле городского маркетинга, а уж для слуха тех, кто определяет театр как место противостояния механизмам сокращения бюджета, просто как предательство. От одного открытого письма к другому страсти только накаляются.
20 июня в Берлинский Сенат, а также на имя министра культуры Моники Грюттерс, было направлено коллективное письмо, подписанное 180-ю сотрудниками и деятелями искусств театра «Народная сцена», в том числе режиссерами Кристофом Марталером (Christoph Marthaler), Гербертом Фричем (Herbert Fritsch), Ренэ Полешем (René Pollesch) и такими актерами, как Мартин Вутке, Катрин Ангерер и Софи Ройс. Назначенным интендантом Крисом Дерконом было проведено первое общее собрание. В письме описывается это следующим образом: «28 апреля общим собранием доведено до сведения будущего руководства театра, что перед «Народной сценой» не будут ставиться новые художественные задачи. Концептуальная линия дальнейшего художественно-структурного развития театра не встретила понимания со стороны Криса Деркона и его программного директора Мариэтты Пикенброк (Marietta Piekenbrock). Такие дополнительные виды деятельности как балет, музыкальный театр, цифровое искусство, кино совершенно не согласуются с жестким репертуарным планом театра Народная сцена. На одном дыхании коллективу было объявлено, что «художественный театр больше не является краеугольным камнем этого здания», были высказаны банальности, такие как «язык сцены должен быть многообразен». В провозглашении такого упрощенного подхода к нашей деятельности мы опасаемся нивелирования, установленного нами художественного уровня, и ожидаемого ослабления нашего актерского потенциала (…) Наша критика направлена на берлинскую культурную политику: во имя мультикультурализма и многообразия форм происходит разрушение оригинального и единственного в своем роде всемирно известного театра «Народная сцена»».
Несмотря на большое количество критиков, многие все-таки оказались на стороне берлинской политики в области культуры. Ряд именитых деятелей искусств и кураторов написали ответное открытое письмо, чтобы поддержать Деркона. Письмо на имя правящего бургомистра было подписано, кроме прочих, Оквуи Энвезором (Okwui Enwezor), директором Дома искусств Мюнхена (Haus der Kunst), архитекторами Дэвидом Чипперфилдом (David Chipperfield) и Ремом Колхасом (Rem Koolhaas), хореографом Анной Терезой де Керсмакер (Anne Teresa de Keersmaeker), кинорежиссером Александром Клуге (Alexander Kluge), а также директором Серпантин-Гэлери в Лондоне (Serpentine Gallery London) Гансом Ульрихом Обристом (Hans Ulrich Obrist). «Крис Деркон появился в Берлине как один из самых успешных и дальновидных руководителей в области музееведения последних трех десятилетий. Ему удалось создать крепкие и устойчивые структуры, он имеет всестороннее представление о значимости идей, являющихся стимулом для развития искусства. В качестве авторитетного деятеля в области современного искусства он оказывал поддержку и помогал профессионально состояться многим художникам. Своей приверженностью к рискованным экспериментам он заслужил доверие и восхищение своих коллег. (…) Принимая во внимание соответствующие заслуги господина Деркона в течение последних трех десятилетий, мы уверены, что он не только идеально подходит для руководства театром Народная сцена, но его кандидатура безусловно является наилучшей».
Пока что нелегко занять определенную позицию в этом споре. Программа, представленная Крисом Дерконом, на данный момент выглядит довольно расплывчатой, чтобы понять, какое направление выберет театр под его руководством. В его команду входят такие деятели культуры, как кинорежиссеры Ромуальд Кармакер (Romuald Karmaker) и Андреас Клуге, которые известны своими высокоинтеллектуальными проектами. Несмотря на это, с грустью вспоминается последний сезон театра «Народная сцена» под руководством Франка Касторфа. В интервью телеканалу RBB Касторф рассказал о своих планах «скакать как некий театральный кочевник от сцены к сцене по всей Европе». Его заключительной работой в театре Народная сцена будет постановка «Фауст II» Гете. «Вот мысль, которой весь я предан, Итог всего, что ум скопил. Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, Жизнь и свободу заслужил».
перевод Дмитрия Шереметьева
На протяжении многих лет главными темами в дискуссиях среди польских театральных критиков, зрителей и деятелей культуры были, как правило, эстетические или идеологические вопросы: репертуар, манера игры актеров, новые СМИ. А теперь уже в течение нескольких лет в центре внимания оказывается проблема управления театрами. События последнего времени показали, что именно она представляет собой серьёзнейшую болезнь польского театра, которую в обязательном порядке пора начинать лечить, иначе будет поздно.
Нынешняя модель театральной жизни в Польше более всего напоминает немецкую модель: государственные театры – это театры городские (которые содержат города) и региональные (которые содержат воеводства), а кроме того, существуют и два национальных театра: Национальный («Народовы») Театр в Варшаве и Национальный Театр Стары в Кракове, которые получают самые большие дотации и подчиняются непосредственно министру культуры. Лучшие театры среди государственных (в том числе Театр Польский во Вроцлаве) получили возможность стать театрами с соруководителем в лице Министерства культуры. Кроме них функционируют, разумеется, и частные театры.
Дирекция театра функционирует на протяжении некоторого количества сезонов, чаще всего пяти. Когда подходит к концу срок её функционирования, то его можно продлить, либо организуется конкурс, участники которого должны удовлетворять определенным условиям (высшее образование, опыт работы на руководящих должностях), а также представить программу управления театром. Комиссия, состоящая из представителей местных властей, театральных авторитетов, представителей Союза актеров польской сцены (Związek Artystów Scen Polskich) и работников театра, выбирает лучшего кандидата путем голосования.
К сожалению, эта система работает не так, как должна бы. В рамках этой системы дело доходит до многочисленных злоупотреблений, которые с недавних пор буквально будоражат театральную Польшу. Прежде всего, представители местной власти стремятся назначить на выгодные директорские должности своих знакомых и политических сторонников, пусть даже в нарушение конкурсных правил. Вот хотя бы случай с Театром им. Александра Фредро в г. Гнезно, где маршал Великопольского воеводства выбрал не кандидатуру той, которая получила в голосовании наилучшие результаты, а назначил свою протеже, и в Торуне, где хоть и выиграл конкурс весьма уважаемый Ромуальд Вича-Покойский, но его не допустили к выполнению обязанностей директора в Театре им. Хожицы. Бывает и так, что политики, которые в художественные театры не ходят и для которых искусство ассоциируется с телевизионными ситкомами, вовсе не желают отдавать руководство театром в руки признанных театральных деятелей, а выбирают тех, кто известен по сериалам, рекламам и телеконкурсам, селебрити, с которыми можно сфотографироваться на банкетах – подобного рода кандидатуру недавно усиленно пытались назначить руководителем в Театр Новы в Лодзи.
Более всего в этом театральном сезоне раздражает длящийся уже с августа скандал в Театре Польском во Вроцлаве. На протяжении более десятка лет этот театр был лучшим в стране, получал награды по всему миру, здесь работали ведущие польские режиссеры: Кристиан Люпа (который называл этот театр своим домом), Ян Клята, Моника Стшемпка, Михал Задара, Барбара Высоцка, Кшиштоф Гарбачевски. Выдающиеся спектакли театра приглашались на многие фестивали мира: от Авиньона и Фестиваля d¢Automne á Paris до Seoul Performing Arts Festival и u F/T в Токио. Вроцлавский Театр Польский, директором которого был Кшиштоф Мешковский, имел своё неповторимое лицо: смелость, амбициозность лучших режиссеров (маэстро Люпа и его самые талантливые воспитанники) вкупе с великолепной актерской командой позволяли по-новому интерпретировать классику и представлять (реже) современные тексты, их работа всегда несла в себе в широком смысле образовательные предложения (спектакли и творческие мастерские для детей и молодежи, дебаты с приглашенными гостями).
Прологом к нынешним событиям стал ноябрь 2015 года, когда новый ультраконсервативный министр культуры Петр Глиньский воспротивился выпуску премьеры спектакля «Смерть и девушка», в котором использованы тексты Эльфриды Елинек, и который поставила молодой режиссер Эвелина Марчиняк. Тогда удалось отстоять свободу искусства, но Глиньский всё же отомстил. Когда срок полномочий Кшиштофа Мешковского истёк, то вместо того, чтобы позволить продлить срок его полномочий (а он этого явно заслуживал, так как именно в этот период театр стал одним из лучших в стране), министр вместе с местными властями объявил конкурс на замещение его преемником. Из шести кандидатов был выбран буквально не скрывавший с некоторых пор своего желания занять какую-нибудь директорскую должность Цезарий Моравский – неудавшийся актер, прославившийся главным образом тем, что сыграл в мыльной опере роль, которую все высмеивали, да ездил по курортам, развлекая публику фарсами на любительском уровне, а ещё он знаменит тем, что когда был казначеем Союза актеров польской сцены, то своим непродуманным инвестированием средств обеспечил организации многомиллионные убытки.
Несмотря на весьма посредственные достижения и полное отсутствие компетенций, чтобы руководить одной из крупнейших и важнейших сцен в Польше, а также компрометирующие судебные истории, власти воеводства Нижней Силезии всё же проталкивали кандидатуру Моравского, поддержал их в этом и министр Петр Глиньский. Несомненно, здесь повлияли во многом консервативные взгляды актера (который в своем директорском проекте провозгласил, что театр, занимавший до сих пор левые позиции, теперь будет ставить произведения Иоанна Павла II), а также личная дружба с политиками как воеводского, так и министерского уровня. То, что в комиссию привлекли Кристиана Люпу, резко протестовавшего против Моравского, никак не повлияло на результат конкурса – Люпа один противостоял целой группе политиков и прочих деятелей, которые даже не допустили какого-либо обсуждения, а сразу выбрали и назначили Моравского.
Против этого назначения с самого начала протестует труппа театра, многие актеры и критики по всей Польше, а также просто вроцлавская театральная публика. Труппа театра, которая поддерживала другого кандидата, обратилась к Моравскому с просьбой уступить, однако он не намерен отдавать уже завоеванную власть, наказывает непослушных актеров (в том числе увольнением) и терроризирует публику. Но актеры решили бороться за свой театр, а если это будет невозможно, то, по крайней мере, за свое достоинство. Кристиан Люпа прервал репетиции планировавшейся на осень инсценировки романа Франца Кафки «Процесс». Режиссеры отказываются сотрудничать с Моравским – спустя несколько месяцев с начала сезона в театре по-прежнему не проводится никаких репетиций, никаких официальных планов премьер не оглашается. Уходят самые выдающиеся актеры этой сцены, большинство из них будут приняты театрами в Варшаве и Кракове: Эва Скибиньска, Петр Скиба, Бартош Порчик, Малгожата Гороль, Мартин Пемпусь. Публика практически после каждого показа продолжающих выходить спектаклей, поставленных при прежней дирекции, протестует с помощью транспарантов и громких возгласов, являющихся прекрасным свидетельством того, что столь сложный и амбициозный театр людям нужен, и они вовсе не желают видеть на месте его спектаклей консервативно-академические и примитивно- развлекательные постановки.
Во всей этой истории поражает бесцеремонность политиков и упрямство директора, но в то же время вызывает уважение позиция актеров, которые предпочитают скорее потерять работу и уехать из города, в котором многие живут с детства, чем выступать в поддержку нынешнего положения вещей. Одновременно весь этот скандал открывает нам глаза на то, что организация театральной жизни в Польше находится в болезненном состоянии и требует реформирования. И если дело дойдет до такой реформы, это станет единственным позитивным побочным следствием происходящих сейчас во Вроцлаве событий.
Перевод Елены Шиманской
Новый 96-й сезон Вахтанговский театр открывает премьерой по Мольеру. Спектакль «Мнимый больной» поставил французский режиссер румынского происхождения Сильвиу Пуркарете. Пуркарете впервые ставит на московской сцене, но уже не первый раз работает с русскими актерами – в прошлом году режиссер выпустил «Сон в летнюю ночь» в петербургском театре «Балтийский дом». Европейскую известность ему принесли интерпретации произведений мировой классики – от Эсхила до Ионеско, а его эстетика запоминается сразу – готическая мрачность коснулась теперь и самой веселой комедии Мольера.
Фарсовую пьесу об ипохондрике, донимающем себя мнимыми болезнями, которыми он мучает и весь дом, пожелав даже дочь насильно выдать замуж за врача, режиссер вживляет в биографическую канву автора – историю жизни и смерти знаменитого французского комедиографа. «Мнимый больной» стал последней комедией, которую Жан-Батист Поклен написал, будучи смертельно больным, в ней же со своей труппой сыграл последнюю роль – Аргана. Он умер в ночь после спектакля, как писал Булгаков в «Жизни господина де Мольера», захлебываясь кровью. И ни один из докторов к нему не пришел. Не успели или, как романизирует Булгаков, не захотели – после такой-то пьесы-памфлета на докторов-шарлатанов. Именно эту трагикомедию жизни режиссер делает точкой отсчета, ей посвящен броский монолог в зал Сергея Маковецкого, который в роли Аргона словно бросает драматургу-пересмешнику сбывшееся проклятье. В его сценах гениально все – то, как он пластически застывает, притворяясь мертвецом, как выходит из вымышленного образа, чтобы говорить от «своего» лица. Маковецкий играет, как и всегда, радостно, взахлеб. Его Аргон – капризный мальчишка, он с удовольствием играет в свою собственную игру и с рвением – в чужие. Но, выходя за границы комедии, Маковецкий снимает «маску» и остается в монументальном «портрете» то ли короля, то ли лицедея на пороге конца.
Гулкая сцена, будто опустевшая после спектакля, завалена грудой стульев. Сверху свешивается проетый временем кроваво-бархатный занавес (сценография Драгоша Бухаджиара). Актер усталой поступью выходит из светящего проема закулисья, снимает с головы королевские перья, идет к гримировальному столику, берет текст и будто примеривается к следующей роли: «Три и два – пять. «Сверх того, легонький клистирчик, чтобы освежить утробу вашей милости». С этой минуты зазвенит, клоунски замельтешит вокруг комедия. Но сквозь мольеровский сюжет проступит новый. Пуркарете ставит «Мнимого больного» как историю о театре, причем не в атмосфере праздника, заглядывая в шумное яркое закулисье, а как игру Фатума. Театр, как зеркало Судьбы, откуда, играя смерть, нельзя уйти живым.
Спектакль раздвигает границы одного жанра, хотя классические фарсовые штучки здесь удаются на славу. Вот служанка Туанетта – Ольга Тумайкина, которая полноправно в спектакле становится одним из главных действующих лиц, – надевает мясистый нос, огромные очки и несуразные ботинки (однако никак не может упрятать пышную грудь), притворяется доктором, чтобы проучить своего доверчивого хозяина. Вот аптекарь Флеран (Сергей Пинегин) облачается в химзащитный костюм и приволакивает 10-литровую канистру с клизмой, чтобы устроить «больному» освежающее промывание. Героев, несмотря на психологическую игру вахтанговцев, режиссер сближает с масками. На это намекает выбеленность лиц и заостренность образов. Развратная жена (Мария Волкова), дочь-нимфетка (Мария Бердинских), страстный романтик, ее жених (как всегда, безупречный Сергей Епишев).
Юмор начинается с деталей, вплоть до мельчайших контрастов, того, как подобраны между собой актеры – толстый и тонкий, высокий и низкий. А эстетский черный юмор – с киношной стилистики отрицательных персонажей – врачи, отец и сын Диареусы (Михаил Васьков и Евгений Косырев), пришедшие свататься, – мертвецы, сверкающие накладными лысинами, посланцы с того света. Но и тут актерам оставлено пространство для игры. Невероятно фактурный Евгений Косырев чуть заметно подергивает оттопыренным мизинчиком в застылой позе ходячего трупа, и зрителя прямо переворачивает от смеха и отвращения одновременно. Но градус драматического напряжения так высок уже от начала спектакля, что многие задуманные режиссером комедийные гэги словно повисают в воздухе, как если бы на поминках рассказывали смешные случаи из жизни покойника, но всем было неловко над ними смеяться.
Спектакль вслед за мольеровской пьесой, вбирающей в себя истоки французского балагана, итальянской дель-арте, пасторали, – раскладывается на интермедии, как на картинки из театральных эпох. Они не только не купируются, но и задают тон всей постановке. Маковецкий выходит на подмостки в образе хитрого горбуна Пульчинеллы, цыгане, приглашенные в дом для увеселения, оказываются танцовщицами американского мюзик-холла, а финальный выход хора – пышным придворным балом времен «короля-солнца». Над всем этим властвует холеный антрепренер – им в спектакле Пуркарете стал рациональный брат Аргана (актер «Современника» Сергей Юшкевич). Это еще одна сторона механизма под названием «театр». Именно он прикажет Мольеру–Маковецкому выйти в роль, ставшую последней. Тот вновь появится в рыжем парике, сопровождаемый хором, и зальет камзол алой кровью, хлещущей из горла.
Это спектакль-эпитафия. И, пожалуй, сегодня сложно выдумать более точный взгляд на комедию Мольера. Пуркарете, как золото на зуб, «проверяет» ее событиями подлинными, жизненными, где благополучного финала, увы, не существует.
«Кафка» Кирилла Серебренникова и драматурга Валерия Печейкина — последняя в сезоне премьера «Гоголь-центра». Байопик и бестиарий. Франц Кафка (Семен Штейнберг) — сдержанный кандидат прав Пражского университета, неудачливый сын властного отца-галантерейщика, беспомощный брат энергично-развязных девиц Элли и Валли, бессловесный 30-летний недоросль, которого жаждет женить кипучая матушка. Почти Грегор Замза — он уводит голову в плечи, обрастает хитиновым панцирем бесстрастия. Жуку тут легче забиться в щель, чем сыну.
Но этому же бледному неудачнику почтительный биограф Отто Пик (Один Байрон) говорит: «В конце концов — все это было показано только для вас». Мир на сцене — с корректностью котелков и пулеметным треском арифмометров, с огненными письменами неона на заднике, с черно-белой кинохроникой двух мировых войн, с поиском неведомых зверей и преисподними плясками персонажа Одрарака (Никита Кукушкин), крепко сбитого господина с армейской выправкой и стальными челюстями вампира, — мир 1910—1920-х в спектакле создан из воображения Кафки.
Показан именно ему как черно-белый немой стилистический эксперимент Творца, который должен отозваться в «Процессе», «Замке», дневниках и письмах. Так задумано свыше.
Самые реальные биографические сцены перерастают в абсурд. Кафка «возвращает письма» своей несостоявшейся невесте Фелиции Бауэр (Светлана Мамрешева), обкладывая даму конвертами, засовывая их за уши невесте, за пояс, в волосы, в карманы, в декольте, — пока ярко накрашенная фрейлейн эпохи фокстрота не превращается в кубистического монстра, продолжающего упрекать: «Тебе дано счастье быть мужчиной. Что ты с ним сделал?»
Тут фантасмагоричны все: господа из страхового общества, медленно проходящие перед глазами Кафки пражские проститутки, пловцы в городском бассейне, стоящие под душем в противогазах (это поколение будет вот-вот призвано на Первую мировую), русский солдат Иван, с мистическим бесстрастием играющий на пиле, графоманы, хасиды, семейные пары, адвокаты.
И сквозная, как история Гретхен в «Фаусте», история детоубийцы Марии Абрахам: не в силах прокормить девятимесячную дочь и не в силах получить страховку за погибшего в шахте мужа — Мария душит ребенка. Тяжкий ход бюрократии тому виной? Или выплеск тьмы внутри Марии?
Нет ответа. Но это главный вопрос Кафки. Он предчувствует ужас будущего (или природы человека, теряющей путы и опоры?). Мелкий, но пронырливый бестиарий фантомов ест его мозг. И воплощается в мизансценах спектакля, в очень целостном и последовательном кошмаре.
Ближе к финалу зрителей просят извлечь из-под кресел конверты. В них — страница Кафки: «Что я могу противопоставить тебе? Жалкий лист бумаги? … Что изменится, если я покрою его своими каракулями? Пока я их пишу, другая Мария Абрахам, доведенная до отчаяния, снимает с ноги подвязку. И душит ей свою дочь. А я ничего не могу сделать.
Перед безумием мира я ставлю свое личное безумие. Тогда мы — я и мир — начинаем говорить на одном языке. В эту минуту я похож на человека, который остался один в опустевшей деревне, рядом с пробудившимся вулканом. Приближается поток огненной лавы, а я стою, держа перед собой лист бумаги…»
Огонь гудит под землей. Сгорит лавка отца. Все три сестры Кафки погибнут в газовой камере. Жуть предвидения, съевшего этого человека, воплотится в XX веке тысячекратно. Но рукописи (которые он, как известно, просил сжечь перед смертью в 1924 году) — рукописи уцелеют.
«Гоголь-центр» выпустил очень целостный и спокойный спектакль, сотканный из невесомой плоти кошмаров, из осколков прозы и дневников. Очень ансамблевый спектакль: Семен Штейнберг, Никита Кукушкин, Светлана Мамрешева, Рита Крон, Один Байрон и их коллеги играют изощренно, пластично, точно — Серебренников вырастил труппу своих актеров, она вошла в силу.
«Кафка» — самый сдержанный, стилистически целостный, лишенный эпатажа (не до него: тут речь о важных вещах!) и, возможно, лучший из спектаклей Серебренникова в «Гоголь-центре».
В следующем сезоне на сцену должен выйти другой байопик — о П.И. Чайковском.
Для Райкина и учеников его Высшей школы сценических искусств Мольер не только автор бессмертных комедий. Мольер здесь – культурный код, открывающий понимание и commedia dell’arte, и Гольдони. Мольер – это провокация к освоению молодыми актерами высочайшей техники комедии положений и характеров.
Казалось бы, три актера – еще студенты – играют в огромном зале «Планета КВН», по сути, учебный спектакль, в котором молодежь осваивает технику лицедейства. Однако в контексте современного театра такой спектакль, как «Лекарь поневоле», оказывается чем-то большим, нежели детские радости и личные рекорды театральной школы.
Константин Райкин с удивительным и завидным упрямством настаивает на том, что можно хохотать, смеяться и на территории культуры, а также еще и очаровываться театром, обаянием молодых актеров, самозабвенно прыгнувших очертя голову, по велению мастера, в водопад с опасными каскадами, именуемый комедией Мольера.
Художественный руководитель театра «Сатирикон» на удивление верен своему символу веры в предназначении театра, один из постулатов которого – внятность высказывания, ясный смысл. Не оттого ли долгие годы в этом театре есть публика?
Как-то непривычно стало выходить после спектакля с улыбкой на лице. Не делают аборта юной Люсинде, а могли бы, и милиционеры не избивают Сганареля, а так и просится прием, когда Лука и Валер «колошматят» Сганареля, заставляя его стать тем самым лекарем, что поневоле. Нет видео на заднике, а между тем молодежи в зале полно, смеется, аплодирует и даже встает в финале, чтобы выразить особое почтение театру.
Константин Райкин – режиссер спектакля, он же педагог, который помогает освоить тяжелейшее ремесло своим подопечным. Текст Мольера сжат до 70 минут под задачу: два актера из трех играют почти всех действующих лиц комедии. Одна студентка играет и жену Сганареля, Мартину, и кормилицу Жаклину, и заболевшую дочь Жеронта, Люсинду, и даже Перрена, сына крестьянина Тибо. Другой студент взвалил на себя все мужские роли: участливого соседа Сганареля, Робера, мужа Жаклин, Луку, Жеронта, отца Люсинды, которую хочет выдать замуж против ее воли за богатого жениха, того самого влюбленного в дочь хозяина Леандра, а еще простодушного крестьянина Тибо. И только Сганареля играет один актер.
В какой-то момент кажется, что пред тобой большая труппа, а не три студента. Молниеносно переодеваются, преображаются, наделяют свои характеры пластическим разнообразием. Вот только что на сцену выбегала Люсинда, похожая на пуделя, в столь кудрявом и объемном парике, что казалось, ее фигурку неуклюже пристегнули к голове. Она скрывается за ширмой, и через несколько секунд появляется кормилица Жаклина с огромным накладным бюстом (художник по костюмам – Мария Данилова). Такая красота не случайно потрясла Сганареля. Актриса (в спектакле в очередь играют Розалия Каюмова, Ульяна Лисицына, Елена Голякова) снова скрывается за ширмами, чтобы предстать Мартиной, женой Сганареля, измученной заботами о хозяйстве, стиркой, безденежьем и пропойцей-мужем.
Даниил Пугаёв и Ярослав Медведев (в очередь) играют горбатого старца, с гомерическим трудом волочащим себя по сцене, то самодовольного «пузатого» господина в богато расшитом камзоле, то красавца Леандра, шевалье, то крестьянин Тибо в войлочном пальто с огромными заплатами. Все эти маски, как калейдоскоп, мелькают перед нами в энергичном ритме, темпераментно, весело и легко.
Сганарель (Константин Новичков, в другом составе – Илья Рогов) с любопытством осваивает работу лекаря. Актер не столько перевоплощается из собирателя хвороста в доктора, для весомости увешивая себя нехитрыми атрибутами врачебного ремесла (грелка с клистирной трубкой, смотровое зеркало на лбу), сколько играет актера, играющего в игру со зрителем.
Перед нами компания отчаянных лицедеев, дело которых – театр. Не случайно в самом начале выходят три актера, словно пришли на занятия по сценическому движению или танцу: в черных трико. В этом прологе они встают в свой магический круг, который подарит им энергию, подогреет чувство к партнеру, чтобы куролесить на сцене. Здесь все можно: бегать, кувыркаться, ходить на руках и, если не по потолку, то по стенам уж точно.
Пролог с эпилогом режиссер срифмует. В финале откроется ширма, что в глубине сцены, и мы увидим закулисье. Нам разоблачат скрытую до того технику преображения: в диком темпе студенты, которые будут играть завтра эти роли для публики, сегодня лихо и азартно работают как невидимая служба костюмеров, переодевают своих товарищей, помогают их перевоплощению.
Сцена, кулисы, стены – все идет в дело, именуемое театром.
Когда облетела весть, что Могучий взялся за «Грозу» замоскворецкого Шекспира, то сердце съежилось. Ох, перейдет ли он сей грозовой перевал, не сгустятся ли снова тучи. Где Островский и где Могучий – это, прямо сажем, не Кама с Волгой. Однако вопреки всем тревогам случилось событие.
Конечно, сразу вас ошарашивает, что город Калинов упакован у Могучего в палехскую шкатулку. В свое время Кугель шутил над мейерхольдовской «Грозой» в декорациях мирискусника Александра Головина в Александринке, что, мол, это же царство берендеев, а не Калинов.
А вот у Могучего, несмотря на то что пространство дышит почти сувенирной красотой, нет ни берендеев, ни китча а-ля рюс. Палех есть, а сувениров нет? Да быть того не может!
Обрушивается на зрителя и другая неожиданность. Здесь нет бытовой речи, тут прозаический текст Островского переведен в поэтический. Как не вспомнить Аполлона Григорьева, который называл драматурга поэтом русской жизни супротив Николаю Добролюбову.
Могучий со своими коллегами, прежде всего с композитором Александром Маноцковым, а также с музыкальным руководителем театра Анной Вишняковой, шлифовавали слово под задачу: добавили этники – волжского говора, отчасти заимствованного, отчасти придуманного, который не позволил зазерниться в спектакле сувенирности. Катерина говорит здесь не как выпускница театрального вуза с поставленной сценической речью, а как волжанка, смягчая окончание: «почему люди не летаютЬ, как птицы» или, заменяя на южный лад звук «в» на «у»: «Я Усе одна» и т.п.
Куда ни шло, когда Катерина изъясняется не как все, понятно. Не от мира сего и Кулигин (Анатолий Петров), он тоже может стихами: Ломоносова любит, а Дикой, Кабаниха, Кудряш – эти-то с чего заголосили рифмой?
Оттого, что Могучий ставит предание старины глубокой. Драма «Гроза» вставляется в другой формат – страшных сказок, которых в нашем фольклоре немало. Дикой (Дмитрий Воробьев/Сергей Лосев) здесь – сумасбродный царь с седой бородой, которого сажают на трон и то и дело выкатывают в центр сцены. Он «правит миром праведным». Кабаниха (Марина Игнатова) – злая хозяйка калиновского царства, и хоть и значится купчихой, но по осанке боярыня боярыней, увенчанная черным кокошником. Кудряш (Василий Реутов) не только лих на девок, кажется, ему ничего не стоит променять мирную жизнь на разбой. Из-под картуза вьются непокорные черные кудри, глаз горит. Когда грозит, что может «уважить», веришь –- лучше не попадать под его горячую руку.
Текст Островского разложен на причеты, плачи, на рифмованные диалоги. Речи актеров почти все время аккомпанирует бас-барабан (Николай Рыбаков), который не только организует ритм, но и нагнетает предгрозовой звук. Вот-вот грянет и разразится гроза, которой так боится Катерина и совсем не боится Кулигин, потому как «електричество».
Все выходы Кабанихи – театр ритуала. Марина Игнатова не сделает ни одного лишнего движения. Сколько уж раз, снаряжая Тихона (Алексей Винников) в дорогу, она пилила сына. Тиша выучил все подробности ее речитатива, весь церемониал угождения маменьке, но на этот раз что-то дрогнуло в нем. Жена стоит рядом. Тихон стонет, плачет, но покорно исполняет требования, усиливая только одну интонацию: скорей бы в дорогу да загулять без оглядки с полной чарочкой на свободе.
Катерину Кабанову одну оденут в красное платье и полукруглый красный кокошник – все остальные жители Калинова кто в чем, но все в черном. Палехская техника использует роспись на черном лаке: в главном же сюжете присутствует акцент непременно с красным. Художник Вера Мартынова добавит тревожные штрихи красного и в безмятежные нарисованные облака, и на сцене то и дело будут из паровой машинки выпускать клубы то белого, то красного пара в черноту сцены.
В первом акте Катерина (Виктория Артюхова) пока так много плачет, что как-то слабо веришь ее собственным словам о характере, сопли да нюни, но вот с того момента, когда косы ее расплетают и она преображается в красавицу – чем не модель для Данте Габриэля Россетти? – актриса начинает говорить человеческим языком. Девочка попала в злое царство, в котором не умеют любить, не умеют прощать, именно это скажет Кулигин, когда тело Катерины достанут из Волги. Тут много говорят о Боге, но жрут друг друга поедом. Возможно, Кулигин в этом спектакле не случайно занимает место протагониста города Калинова, самодеятельный ученый, нелепый мечтатель, разъезжающий на самокате, мечтающий о рerpetuum mobile и о городских часах на площади.
Бориса, который в ремарке Островского один одет не по-русски, играет приглашенный из труппы Михайловского театра Александр Кузнецов. И если все осваивают текст в ритмах славянского фольклора, то он – посланец итальянской оперы, баритон со всеми повадками другого театрального бытия. Как бы солист La Scala попал в казачий хор. Он превращает текст драматурга в оперную партию. Могучий на репетициях взывал, чтобы актер воображал себя Парисом.
Однако такой театральный прием не умаляет драматизма расставания, расстроенной судьбы одного и оборванной жизни несчастной девочки, которая осознает предельно ясно, что вне любви она жить не станет. Барыня (Ируте Венгалите), совсем не сумасшедшая, а пережившая в молодости драму Катерины, с самого начала ее жалеет и знает финал этой несчастливой сказки.
Гроза и молнии, разрезающие черные небеса, в спектакле не принесут очищения Калинову. Катерина закроет нарядный палехский занавес, за которым останется Тихон с вопросом: как и зачем ему жить?
Премьерная «Васса» в Малом театре поставлена в академических традициях, на первый план выдвинута не режиссерская фантазия, а актерские работы. Режиссер Владимир Бейлис выбрал первую редакцию пьесы Горького – ту, в которой нет ни слова о классовом конфликте и Вассе, как символе краха русского капитализма. Перед зрителем душераздирающая семейная драма, в которой нет ни правых, ни виноватых.
Главное достоинство новой «Вассы» - артисты. Такого уровня ансамблевой игры театралы не наблюдали до обидного давно. Все герои на сцене равны, и в трагичном финале виноваты тоже все. Несгибаемая Васса – условная главная героиня. Людмила Титова играет ее страдалицей.
Несмотря на пугающую, уродующую всякую душу изнанку семейного «бизнеса», она, прежде всего, несчастливая женщина. Красавица с прямой спиной (ох уж эта фирменная стать актрис Малого театра), с высокой прической, в кружевном платье цвета лаванды , залегшими черными тенями под глазами. Она – мать, уверенная, что все самые страшные грехи во имя детей ей простятся: «Богородица поймет». Одна из самых ярких сцен: Васса смотрит на собравшуюся за столом семью со стороны (повод – приезд старшей дочери Анны), а вместо произносимых ими слов слышит детское щебетание.
Оба ее сына – Павел и Семен, по ее собственному признанию, «не удались». Один – озлобленный уродец, второй – глупый как пробка сладострастник. Артисты Станислав Сошников и Алексей Коновалов безукоризненно играют оба характера. Сколько душевных подробностей, актерского куража.
Фантастически хороша и Ольга Жевакина, играющая лицемерную жену Семена Наташу. Каждое ее появление на сцене – маленький бенефис. Традиционно ярок Александр Вершинин (разудалый Прохор Железнов). Артистам Малого удалось оправдать горьковских персонажей, заставить зрителя им сопереживать. Семья Вассы – это клубок змей, которые кусают сами себя. Они пугающе узнаваемы, как и ситуация кровавой дележки наследства. Невежественные, нелюбимые, не умеющие любить сами, герои и героини - совсем не исчадия ада. Их трагедия в том, что они не знают, как по-другому. За них не страшно, их жаль.
Сценография Эдуарда Кочергина – полноправный участник действия. Деревянный дом с несуществующей крышей (над головами большого и несчастливого семейства – пробоина). Несколько голубей на балках, затопленный камин, кабинет Вассы, стол с самоваром и скатертью. Стены сужаются где-то в глубине сцены, там же – целый иконостас, зажженные свечи. Во время действия к нему никто не приближается, в финале героиня возле него умирает. Осознав, что никогда и нигде не будет ей оправдания Васса, вскинув руки, бежит к иконам, оступаясь, падает замертво. Решив финал в морализаторском ключе, Бейлис, тем не менее, счастливым образом избежал пафоса. Его спектакль – не о том, что зло наказуемо. Он о том, как страшно прожить жизнь, так об этом и не узнав.
«Князь» – так называется новый спектакль Константина Богомолова в театре «Ленком». Это третий столичный театр, после «Табакерки» и МХТ имени А.П. Чехова, который не скрывает своей заинтересованности в продолжении сотрудничества с режиссером. В прошлом сезоне Богомолов выпустил здесь «Бориса Годунова» по Пушкину, в новом спектакле он продолжает работать с классикой: «Князь» – написано в афише, – это «опыт прочтения романа Ф.М. Достоевского «Идиот». Все интересующиеся театром уже успели обсудить новость, что за неделю до премьеры режиссер снял с роли народного артиста России Александра Сирина (в «Годунове» он играет Шуйского) и сам теперь играет князя Тьмышкина.
Да, вместо Мышкина у Богомолова князь Тьмышкин и благодаря стремительно распространяющимся у нас интересным театральным подробностям (прямо скажем, очень часто – не без участия самого Богомолова) многие другие скандальные детали спектакля тоже уже известны. Ну, например, то, что во втором действии титры, которые в «Князе» появляются на торцевой стене (сценография Ларисы Ломакиной), сообщают публике, что «Настасья Филипповна (в титрах фигурирует под именем, которое ей дал Достоевский. – «НГ») пишет письмо кровью». Следующий титр: «Менструальной». Или – что в том же втором действии один из следующих титров сообщает, что «Папа и мама уходят потрахаться». Это все уже известно. Но это – при известной поляризации мнений – почти все «ужасное», что есть в спектакле. После выступления известного журналиста Александра Минкина против премьеры «Князя» в жанре «Так жить нельзя» ждешь чего-то совсем уже из ряда вон выходящего. А встречаешься с, в общем, местами очень даже интересным диалогом с романом Достоевского. Спектакль кончается – в сравнении с другими более или менее недавними богомоловскими театральными сочинениями – довольно быстро, через три часа пять минут, а мысли о нем поселяются надолго, и день, и два спустя возвращаешься к ним, и к спектаклю, и к тому, как существует в роли Мышкина-Тьмышкина Богомолов.
Хотя все приметы его стиля и приемы «разделки» классической «туши» вроде бы на своих местах: Богомолов в этом смысле приходит с инструментарием вчерашнего дня, как классический постмодернист и деконструктор, так что в новом спектакле про идиота все начинается с «Ла-ла-ла…» и «Кабы не было зимы…» из мультфильма про Простоквашино и продолжается другими известными шлягерами, преимущественно про детство и подростковый возраст и чувства, чтением стихов Степана Щипачева «Любовью дорожить умейте», по которым когда-то в школе предлагали писать сочинения, а может, и сейчас еще предлагают. Детскую тему сам режиссер назвал среди самых важных для него в этой истории, и, зная роман «Идиот», соглашаешься с Богомоловым: имеет право, Достоевского тема насилия над детьми волновала и в прозе, и в жизни тоже.
Богомолов – известно – из поколения пересмешников, что тоже входит в набор инструментов постмодерниста. Поэтому Мышкин-Тьмышкин у него прибывает в Россию из Трансильвании, как положено скорее не Мышкину, а пострадавшему от встречи с Дракулой, или тому, кому эта встреча была чрезвычайно интересна, кого мучило опасное любопытство, как слоненка из сказки Киплинга «Отчего у слона длинный хобот». Поэтому первый диалог Князя с Фердыщенко строится как прохождение прибывшим из-за границы таможенных процедур, причем герой Богомолова является в Россию, а затем и в дом к генералу (Александр Збруев) с полиэтиленовым черным пакетиком. Это смешно, но, в общем, с поправкой на наше время – совершенно в духе Мышкина из романа «Идиот». Но уж точно – по Богомолову – нельзя здесь говорить о чем-то всерьез, вслух нельзя, это точно. Поэтому, когда князь начинает свою «байду» про то, что любит не любовью, а жалостью, Настасья Филипповна его мгновенно перебивает: «Фигня какая-то», употребляя, впрочем, еще более эмоционально насыщенное слово. А Виктор Вержбицкий, умело балансируя на тонкой грани между прозаической реальностью и безграничной фантазией постановщика, играет отсутствующего в известных вариантах романа депутата Ашенбаха, который в Таиланде встречает свою последнюю любовь…
Интереснее другое. Интонация, которую, кстати, трудно (пока что) представить в устах другого исполнителя, но, судя по всему, очень важная для Богомолова. Он говорит скороговоркой огромные периоды местами вязкого, местами сумбурного текста, максимально лишая его интонаций, однако же интонации в какой-то момент проступают, ухо начинает их улавливать, точно это интонации поблекшие, но не выцветшие окончательно. Богомолов–Тьмышкин говорит, разумеется, голосом, усиленным микрофоном (как и все), волосы – взъерошены, в глаза собеседнику он не глядит и старается ни с кем не встретиться взглядом. Когда звучит очередная песня – про прекрасное далеко, – князя начинает корежить и плющить, он здесь, можно сказать, становится индикатором «уровня» или, если угодно, самого факта существования детского насилия, что для всех остальных – обыденность, рутина работы в детской комнате милиции. Фердыщенко (Иван Агапов) здесь «защищает мир от детей», в то время как впору детей защищать от него, равно и от многих других персонажей, впрочем, в программке никак не определенных. Да, это важное обстоятельство спектакля: в программке актеры просто перечислены в столбик, нигде нет никакого указания или привязки, что этот – такой-то, а эта – Аглая или Настасья Филипповна. Эти связи, конечно, можно выстроить из последовательности титров и монологов, которые произносит, скажем, Елена Шанина (судя по всему, Аглая) или Александра Виноградова (скорее всего Настасья Филипповна), но вслух, со всей определенностью никто никого не называет, тем более чтобы – раз и навсегда.
Спектакль – здесь режиссер следует за автором – это цепочка монологов, разбитых или поддержанных песнями из популярного советского набора «счастливого детства», и сегодня трогающими душу, и радующими, и печалящими. Несколько монологов – и час пролетает. При этом в память западает и Шанина, и Збруев – его монолог о том, как избил Настасью Филипповну, как любил и убил, тоже забыть невозможно. Никаких «усилителей вкуса» и «раскраски игры», но каждое слово отпечатывается, как шаги Командора.
Фантазия постановщика, как всегда, не знает границ, причем границы привычно он отодвигает в одну и ту же сторону (обычно об этом говорят – ниже пояса; добавим – но выше колен), и, в общем, не желая даже никак обидеть режиссера можно сказать, что каждый его спектакль – это опыты графомании на ту или другую тему, поскольку к формальному совершенству, так думается, стремления нет, а главное желание – сказать все, что наболело по поводу и на тему. Поэтому, кстати, и появляется возможность сократить уже вроде бы готовый спектакль на – так говорят видевшие первые показы – полчаса. Так что сейчас почти каждая следующая рецензия откликается на спектакль, который не равен предыдущему ни по времени, ни – в связи с сокращениями! – по содержанию.
…Ремонт в пустом пространстве: леса на трех этажах затянуты непрозрачным полиэтиленом, пол вскрыт, зияет большими клетками-колодцами. Замкнутая нелюдимая среда. Двери по бокам распахиваются, за ними льется теплый свет, где-то в отдалении плещет музыка. В зал не входит — врезается танцующая пара, слитая в каждом движении. Гамлет и Гертруда. Главные герои спектакля, впервые равные значением: так решил Лев Додин. Гертруда — Ксения Раппопорт. Гамлет — Данила Козловский.
Их первый диалог — о том, что разворачивается на глазах, и о том, что скрыто.
Спектакль называется сочинением для сцены по Саксону Грамматику, Рафаэлю Холиншеду, Уильяму Шекспиру и Борису Пастернаку.
Грамматик — датский летописец, в чьей хронике «Деяния данов» упомянут Гамлет; Холиншед — летописец английский, из чьих хроник щедро заимствовал Шекспир. В ткань спектакля вживлена история, не преображенная художественно. Текст, казалось, хорошо известный, временами неузнаваем. Взгляд Додина на пьесу устанавливает в ней новые причинно-следственные связи, заново истолковывает характеры, отскребает привычное в трактовках. Додин прослаивает знакомые реплики незнакомыми, слова одного персонажа передает другому.
Она молодая, притягательная, резко-определенная. И слушая королеву, мы узнаем, что отец Гамлета, монарх, которого по умолчанию принято считать добрым и справедливым государем, был кровавый жестокий тиран, при котором про датчан говорили: наглецы и свиньи. А его младший брат Клавдий, теперешний король, скорее реформатор, и от него ожидают «чтоб ты проветрил наш кабаний угол!»; Гертруда бросает это страстно и убежденно; тут не эмоции, политический проект.
Роман королевы и брата короля, похоже, начался еще при его жизни: влечение висит, уплотняясь, в воздухе между ними. Их сцены — свидания любовников-сообщников: Клавдий (Игорь Черневич) насторожен, Гертруда не скрывает внутренней дрожи, и вдруг совсем не по-матерински скажет о сыне: «…он весь в отца и очень хитер!» Оба начеку: в стране только начались преобразования, но сын и пасынок, вернувшись из Виттенберга, становится главным препятствием. Задает вопросы, слышит какого-то призрака. Развитие событий — растущее страшное отчуждение матери и сына.
…Гамлет, действительно, весь в отца, его повторение. Соль концепции — в афише спектакля, рассеченной на две части: лицо молодое и то же лицо, постаревшее на три десятка лет, принц и король. И сын, двойник отца, в обратном резком свете утраты ищет новую цену себе, своим связям, реальности. Он говорит с голосом, звучащим внутри, а не с бестелесным духом извне. В черных джинсах и ветровке с капюшоном, стремительный, беспафосный, он нянчит свое острое беспокойство, обращая его в сухую ярость.
Еще много раз во время спектакля распахнутся двери по бокам зала, плеснет за ними теплый свет, дивная музыка, иная жизнь. Инобытие, проекция мечты… Потом двери захлопываются — и мы остаемся в темном герметичном полупогребе, где за пластиковыми занавесками слышны шаги…
Три старых актера, неспешно возникающие перед Гамлетом, одновременно и стражи, и друзья, и те, кому режиссер передает ключевые монологи ключевых персонажей. Игорь Иванов, Сергей Курышев, Сергей Козырев — старшее поколение и фундамент труппы. Они играют свой спектакль в спектакле обаятельно: глумливо, отважно, мастерски. Принц в их протянутые руки положит свитки с текстом, который он для них написал. Гамлет и Клавдий, Офелия (Елизавета Боярская) и Гертруда сядут в кресла первого ряда: перед ними на сцене пойдет представление. И прямо Клавдию в лицо, оплывшее, многоопытное, актер бросит его слова: «Со мною всё, за что я убивал, — моя корона, край и королева!»
Но Клавдий не дрогнет, не будет криков, удушья, лишь молча выйдет. А Гертруда обхватит себя за плечи, сгорбится, раскачиваясь, покажется на миг старухой.
Роль Офелии сокращена, но выстроена очень определенно. Пока идут переговоры с актерами, Офелия ждет, прижимается, пытаясь отвлечь, не удается: принц поглощен иной задачей. Тогда она устремляется прочь, нетерпеливо прищелкивая пальцами. Времени нет! И через минуту в руки Гамлета откуда-то из-за пластика швыряют что-то розовое, кружевное. Он оглядывается и ныряет внутрь, за пелены. А потом они, полуодетые, поднимаются снизу, из подземелья, она, еще поблёскивающая от любовной испарины, он — уже сосредоточенный и отрешенный.
…Полоний (Станислав Никольский) тут не отец — брат Офелии: сама прилизанная, на все готовая преданность. Гамлет убьет его страшно: за занавесом, зверские тупые содрогания, и тело, уже запеленутое, вниз головой полетит в подземелье. Гертруда, еще не зная, кто убит, подломится на красных лаковых каблуках, воя, на коленях поползет к краю разверстого пола, заглянет вниз, захохочет-зарыдает: не Клавдий!
Ксения Раппопорт в своей Гертруде играет и Гонерилью, и леди Макбет; на все обвинения она бросит сыну: «Не твоё дело!» Но он сам стал ее делом: сначала убийство Полония, потом рассказ о том, как со зловещей находчивостью принц по дороге в Англию послал на смерть всех спутников. Не сын — противник, как его отец, виновник ее и государства бед. Она делает выбор, произносит слова Клавдия: «Избавимся от этого огня! Пока он жив, нет жизни для меня»!
Фраза — черта. Гертруда и Клавдий в приступе вожделения, сдирают с себя одежду, и так, в исподнем, кинутся вверх по лестнице то ли за призраком, то ли за потерявшей рассудок Офелией: опять дикие содрогания за занавесом, и запеленатую, как куклу, потащат, скинут сверху.
После каждого убийства с грохотом тысяч ног выходят ражие молодцы и закрывают плитами часть разверстой сцены: ровняют могилу с поверхностью.
…В финале Гамлет срывает одну за другой пластиковые плёнки, за ними трехъярусные голые леса: жесткий костяк, скелет жизни. Оставшись втроем, Клавдий, Гамлет и Гертруда медлят в пустоте. «Мы все в крови!» — с мрачным торжеством скажет Гамлет. «И я!» — отзовется Гертруда. «И я!» — повторит Клавдий. Декларативные светлые идеи («чтоб дать развиться краю») разрушены темной энергией общих преступлений. Королева признается: она отравила ненавистного мужа. Подносит флягу к губам, спрыгивает в подземелье. Остаток выпивает Клавдий. Гамлет, вместо матери, обнимет свою флейту, станцует с ней, отчаянно, издевательски — и спрыгнет сам.
Здесь обвиняют всех, но Гамлета и Гертруду сильнее прочих. Зло множит зло, кровь притягивает кровь, и они сознательно выбирают это.
За всю постановочную историю пьесы принца датского превращали и в подонка, и в убийцу, и в падшего ангела, и в философа. В этом спектакле он фанатично заблуждающийся, кровавый моралист.
И вот в финале еще раз распахиваются двери — и огромный экран-аквариум с говорящей головой Фортинбраса (костюм, галстук, полная безликость) — проезжает мимо зала, бормоча штатную демагогию: «…ответственность беру я на себя»; новый правитель, старый режим. Как в финале «Коварства и любви», режиссер здесь жестко сцепляет вневременную материю пьесы с гниющим веществом современности.
Додин не страшится безнадежных диагнозов, не боится вглядываться в бездны, лицом к лицу стоять с неприглядными истинами. Но раньше в его спектаклях присутствовал восходящий мотив надежды. Сама поэзия решений давала ее. Здесь нет.
Нет впервые и тени сострадания. Ни к кому. Постановщик намеренно и жестко разрушает любые иллюзии зала.
Что ж, чту замысел, принимаю посыл, уважаю безмерно труд мастера. Но не хочу соглашаться! И да, мне жаль всего того невесомо-неподъемного объема смысла, тех сомнений, терзающих вопросов, рефлексии и поисков ответа, того истового испытания всего на прочность, той высшего порядка отвлеченности, страсти и муки познавать, того скепсиса и горечи мысли, без которых нет «Гамлета». Который воплощал человечность в ее силе и славе. Который был обещан не только минувшим четырем векам — всем грядущим.
Но, быть может, мне просто жаль той жизни, в которой этого Гамлета уже нет.
Накануне премьеры Жолдаку пришлось значительно сократить свой спектакль (теперь он идет около четырех часов), сменить название: не «Три сестры», а «По ту сторону занавеса» (сегодня кто только не заигрывает с миром закулисья и потусторонностью). А еще решено было посадить зрителей на сцену, чтобы актеры играли на фоне зала Росси – пространства, что и говорить, сакрального.
В сравнении с Треплевым экспериментатор-провокатор Жолдак поступает менее радикально: переносит действие лишь на две тысячи лет вперед. Спектакль начинается как космическая эпопея. Некто в 41-м веке вызывает чеховских трех сестер из небытия, реанимируя их память. В этом можно усмотреть улыбку в сторону исканий самой Александринки, где уже не один год стремятся скрестить великие традиции с новейшими технологиями.
В предыдущем петербургском спектакле Жолдака Zholdak dreams (БДТ) речь идет об астронавтах, услышавших музыку с «темной стороны Луны». Ставя «Трех сестер», режиссер попытался вслушаться в то, что происходит «по ту сторону» пьесы. Принцип, по которому сочиняется действие, напоминает о другой пьесе – «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Стоппарда, где зритель оказывается как бы на задворках «Гамлета». Известные события вытеснены на периферию, а публике предложено вообразить то, что у Шекспира (читай у Чехова) осталось «за кадром».
С кинокадров (из «Соляриса») и начинается этот спектакль, пронизанный киноцитатами: на экране, который висит над подмостками, – водоросли, колышущиеся под водой. Память о Тарковском пробуждают космичные видеопейзажи Даниэля Жолдака (он же вместе с режиссером разделил функцию сценографа). Реинкарнированные сестры, прилетевшие на Землю на космическом корабле, возникают на фоне то океана, то огромной луны, то лесной стихии – будто из «Зеркала». Связь с Тарковским не только в цитатах и аллюзиях, она и в способе построения действия. Жолдак зарифмовывает разные сюжетные линии, зеркально отражает одних персонажей в других.
Здесь возможны метафизические встречи, которые не произошли бы, будь пьеса поставлена «реалистически». Вот один из старогвардейцев Александринки Семен Сытник в роли Чебутыкина признается героиням, что любил их мать. И возникает она, красивая молодая женщина, и зовет его, Ваню...
Другой александринский корифей Игорь Волков играет как Вершинина, так и отца трех сестер – по той же причине, по какой, скажем, Маргарита Терехова в «Зеркале» предстает и матерью главного героя (в его воспоминаниях), и его женой (в настоящем времени). Другое дело, что у Жолдака закономерности межчеловеческих отношений показаны куда более радикально и при этом однозначно. Машу (Елена Вожакина) режиссер наделяет комплексом, сочинив флэшбек, намекающий на ее инцестуальную связь с отцом – этаким тиранчиком в бумажной короне. Это объясняет, почему в условном настоящем времени Маша, с одной стороны, столь привязана к стареющему и лысеющему простаку Вершинину, а с другой – зависима от мужа, домашнего тиранчика Кулыгина.
То недоговоренное, что у Чехова представляет собой «подводное течение», Жолдак словно высвечивает прожектором и выставляет в гротескном, эксцентрическом ключе, недаром Виталий Коваленко в одном из эпизодов надевает клоунские рыжую бороду и нос. Коваленко удается в броском рисунке роли сплавить в Кулыгине лиричность и садизм, отчаяние и бессилие. Вот Кулыгин кормит жену с ложечки, издевательски приговаривая: «Маша любит кашу». Позже, явившись домой не вовремя, он нарочно шумит дрелью, не решаясь застать любовников врасплох; но через мгновение (невеликодушный рогоносец!) высвобождает обиду, насилуя Машу на пороге дома.
Елене Калининой отданы роли Ольги и Наташи, которая, как сообщают титры, поразительно на нее похожа. Понятно, почему Андрей Прозоров – Степан Балакшин вдруг тянется к сестре с поцелуем: одна героиня на мгновение проступает в другой. Актриса играет две ипостаси женской натуры. В сцене в гимназии, где Ольга учит сестер, она произносит как будто средневековый текст – о ландышах, вырастающих из слез Божией Матери. И тут «проговаривается» одиночество Ольги, стародевичья мечтательность, не сложившаяся женская судьба. И та же Калинина – распутница Наташа, которая в предвкушении ночного свидания с Протопоповым выхаживает по сцене чудом в перьях, одетая точно из оперы «Королева индейцев», и буквально воет на луну. Да, людьми двигают не только детские травмы в пресловутом фрейдистском понимании, но и силы природные, «приливы и отливы».
Жолдак не впервые «прививает» спектаклю космическую тему, задающую правила игры, другой вопрос, как потом эта игра развивается. В его «Мадам Бовари» «пролог на небесах» комичен и непритязателен; но действие переносится на землю – и зритель сопричастен страстям заглавной героини, сострадает ей. В Zholdak dreams, спектакле выхолощенного формотворчества, где персонажи сплошь фантомы и сущности, зрительское соучастие возможно в той мере, в какой оно возможно в компьютерной «стрелялке». «По ту сторону занавеса» предлагает промежуточный вариант: фантомы памяти постепенно обретают плоть и кровь, проявляясь как живые люди и в итоге воздействуя на зрителей традиционно – драматизмом человеческих отношений.
Но вот вопрос. Если пролог о возвращенной памяти и реинкарнации брошен и не развивается, а спектакль представляет собой импровизации поверх пьесы (но импровизации уже закрепленные), так ли уж содержательна вся эта «космическая операция»?
В некоторые моменты спектакль начинает дышать красотой и поэзией, но иногда он невыносимо затянут и монотонен. Что-то из придуманного режиссером «поверх» Чехова остроумно и театрально, а что-то претенциозно и неубедительно. Вряд ли понимание мужского соперничества как латентного желания обладать соперником дает такой уж сущностный взгляд на любовный треугольник Ирина (Олеся Соколова) – Тузенбах (Иван Ефремов) – Соленый (Владислав Шинкарев). В сцене предполагаемой дуэли (у Жолдака это происходит в прозрачной барокамере) кошачье-томный Соленый приспускает с «простого хорошего парня» Тузенбаха штаны и... весьма своеобычно мстит. Бедный Тузенбах!
Это очень неровный спектакль.
В финале трех сестер, одну за другой, сражают выстрелами. Кто и почему? Если бы знать, если бы знать...
Никита Михалков все-таки успел на премьеру к брату, но только ко второму акту и потому не смог насладиться красотой и легкостью первого. И потому, наверное, удивился финалу: Фирс в заколоченном господском доме, вопреки первоисточнику, оказался не один. Хотя этот «не один», а точнее, «не одна» появилась именно в первом акте. Кончаловский других вольностей себе не позволил в трактовке сюжета, характеров и взаимоотношений героев. Хотя самая первая сцена намекала на фривольности: в ожидании господ Дуняша (Александра Кузенкина) моет пол руками, нагло выставляя перед Лопахиным (Виталий Кищенко) аппетитный зад. И так повернется девица, и эдак — ноль внимания. Лишь в конце сцены, у зеркала, поправляя шейный платок, он так хлопнет ее по заду, что станут понятны их «закадровые» отношения. Но публика этого не видела и не увидит за все время сценического действия.
Один хлопок по заду, один поцелуй за весь спектакль — такое сегодня в искусстве, особенно театральном, представить сложно, и тем не менее… На другом сосредоточил свое внимание постановщик Кончаловский. Он попытался объемно посмотреть на Чехова и его последнюю в жизни работу. В театральных условиях желаемой объемности он добивается нарочито простыми, не кинематографическими средствами.
В каждом из актов опускается экран, по которому, как по бумаге, скрипя, бежит перо Антона Павловича — больного, по сути умирающего — и пишет разным своим корреспондентам (жене, художнику Коровину и другим), как продвигается пьеса, про кровохарканье, что мучает его во время написания комедии, про смерть, которая, в сущности, простая вещь… И эти простые рукописные, не высокотехнологичные комментарии действуют сильнее любых высоких технологий. Думаешь: какие силы были у умирающего человека, чтобы писать именно комедию? И почему комедию? Умирающий больше понимает в смерти?..
А на сцене, за поднявшимся экраном, открывается такая же простота, как на бумаге. Столик, шкафик, диван красного дерева эпохи царя Александра, стулья, высокое зеркало поодаль на фоне хорошо подсвеченного белого задника (отличная работа художника Сандро Сусси) смотрятся как экспонаты в музее. Готовая картинка усадебного быта помещичьей семьи начала прошлого века. А вот и господа из самого Парижа, которых ждали, намывая пол. Хрестоматийные, знакомые до боли, ну просто как родственники каждому более-менее грамотному россиянину: Раневская (Юлия Высоцкая), помещица, две ее дочки — трудяга Варя (Галина Боб) и стрекоза Аня (Юлия Хлынина). Дядя их, Леонид Андреевич (Александр Домогаров), гувернантка Шарлотта Ивановна (Лариса Кузнецова) со своими фокусами в прямом и переносном смысле да Яша (Владислав Боковин), лакейская наглая рожа. По авансцене на полусогнутых проходит Фирс (Антон Аносов), шамкая отвисшей челюстью. Не говоря уже о местных обитателях — старые знакомцы.
И текст, знакомый до боли, произносят: про торги, про Париж и телеграммы оттуда от негодяя, обобравшего Раневскую, а также про желтого в угол и что-то там в середину. Кончаловский каким-то невидимым образом так организовал жизнь этих людей из прошлого, что она магнетична, притягивает внимание. Хотя где они уже и где мы теперь?..
Конечно, тут вопрос — в умении работать с актерами, которые создают эту необъяснимую магнетичность, независимо от объема роли. Вот, скажем, Епиходов — не человек, а нелепая функция — у Александра Бобровского смешон не комедийными красками, а напыщенностью, которую так удачно подчеркивает грим: залихватские маленькие усики, несоразмерные с его крупной фигурой.
Гаев — пожалуй, лучшая роль Александра Домогарова, отработавшего у Кончаловского во всей трилогии. Внешне почему-то схож с артистом Качаловым (пенсне, мягкие манеры), но характер создан удивительно тонко, вальяжно и неспешно — как, собственно, и живет его персонаж. И верная интонация найдена (барская, нараспев), и жест. В этой роли для любого артиста есть свои нелюбимые подводные камни, умение обойти которые только подтверждает класс артиста. Таким камнем является монолог Гаева в первом акте, обращенный к шкафу: «О, многоуважаемый шкаф…» У Кончаловского Гаев произносит его, раскинув руки по спинке дивана и запрокинув голову, — это выглядит органично и смешно.
Роль Ани также невыигрышна — своей неестественной чистотой, пафосными текстами про новую жизнь… Юлия Хлынина, которая очень активно набирает очки в театре, замечательно справляется с этой ролью. Чего стоит одна сцена с Петей Трофимовым (Евгений Ратьков), который живописует перед девушкой прелести новой жизни.
— Смотрите, покойная мама идет по саду, — вдруг говорит Раневская. Фигура в белом, под белым же кружевным зонтиком проходит по заднику. Не посмотрев, не оглянувшись. Второй раз она появится на качелях — и тоже вполоборота, лица не видно. Она же окажется за столиком, накрытым к вечернему чаю, напротив Фирса в заколоченном доме. Метафора не только невозвратного, забытого, но и наглухо заколоченного прошлого — всех и все забыли. «Эх вы, недотепы…»
И, наконец, Юлия Высоцкая в роли Раневской. В роскошном светлом парике, красивом платье (удачно стилизованные костюмы Тамары Эшбы). Нервическая особа с первого своего появления: пахитоска в руке дрожит, слушает вполуха, формальна в отношениях и озабочена чем-то, но явно не продажей родового гнезда. Удивительно, но в ее игре мало настоящего, да и ей самой оно малоинтересно, здесь больше будущего. И, что удивительно, будущее это сыграно Высоцкой так умело и четко — ну, уедет в Париж, проживет там деньги от ярославской бабушки и своих дочерей, которые ей не очень-то интересны. Даже сын Гриша, который утонул здесь, тоже для нее досадный факт биографии, досаду которого она гримирует пафосным театральным криком: «Гриша, мальчик мой!..»
На роль Ермолая Лопахина приглашен ведущий актер Волковского театра из Ярославля Виталий Кищенко. Его образ, впрочем, как и все остальные, не тронут новейшими прочтениями (например, Ермолай Алексеевич не вступает в интимную связь с Раневской или не получает диплом Гарварда). Напротив, образец дельного человека в России, в финале ставшего тем, кем и был, — мужик мужиком.
В общем, извечный спор между традиционалистами и радикалами, обострившийся в последнее время до необычайности, Кончаловский разрешил просто — высокое качество, господа.
Зачем? В одном из писем Виктора Астафьева есть строки: «Я пишу книги о войне, чтобы показать людям, и, прежде всего, русским, что война – это чудовищное преступление против человека. И чем более наврёшь про войну прошлую, тем скорее приблизишь войну будущую». Это и есть ответ: весьма болезненный для постановки, прошедшей 23 февраля, но, если разобраться, возможно, именно в этот день более всего своевременный.
Знакомые черты артистов Анны Синякиной, Натальи Горчаковой, Максима Маминова и Сергея Мелконяна трудно распознать за париками, очками-линзами, накладными животами и увеличивающими рост котурнами. Обращаясь к зрительному залу и отдельно к четырем пластиковым подросткам, их герои рассказывают-разыгрывают разнообразные составляющие мира «Евгения Онегина».
Что такое театр, куда любил ездить Евгений? На сцене – вырезанный из картонной коробки макет, куда, освещенный светом фонарика, спустится ангел. Откуда пошло выражение «так плохо, что тушите свет»? Зрители от досады задувают свечи в ближайших канделябрах. Что такое русская зима? Тут артисты вызывают из зала добровольцев, которые изображают шалуна с отмороженным пальчиком, камыши на озере, куда идет купаться гусь, мать, грозящую шалуну в окно… Ораторы путаются в ударениях, падежах и склонениях: «пИсал» Пушкин снег или все-таки «описывал»?
Но, не сбавляя напора просветительского азарта, все больше воспаряя в гибельные выси, четверо отважных пушкинолюбов рассуждают об отличиях аглицкого сплина от русской хандры, демонстрируя целый чемоданчик предметов, к которым охладел Онегин: «прямые ножницы, кривые и щетки тридцати родов и для ногтей, и для зубов»…
Темы усложняются. И вот представительница общества любителей Пушкина из Тулузы (Анна Синякина) снимает стриженный седой парик, слезает с котурн. И вот маленькая и гибкая Таня Ларина кричит «бонжур» пришедшей к ней толпе деревенских баб и мужиков (во главе пестрой вереницы монтировщиков и осветителей театра – сам режиссер-постановщик Дмитрий Крымов в шапке пирожком). А потом сочиняет главное письмо русской литературы, перекидывая перо из пальцев одной босой ноги в пальцы другой. Перья множатся. И юная мечтательница уже пишет руками и ногами… Няня (поразительный Сергей Мелконян с шарфиком на голове и сползающими накладными грудями) бегает по лестнице, безрезультатно открывая и закрывая форточку… Самого Онегина на дне рождения Татьяны «сыграет» вызванный из зала парень, который, доставая из подарочного пакета гигантский пластиковый пистолет, нечаянно (так у Пушкина) убивает юношу-поэта Ленского (Максим Маминов).
В финале искусствоведы-любители выкатывают на авансцену станки с крутящимися лентами, чтобы показать, как зима сменяется весной, а весна – зимой. А люди очень редко умеют вовремя оглянуться и оценить прошедшее. Как порой самое важное остается под снегом, а мы не замечаем похороненные кусочки души.
Для детей надо работать как для взрослых, только еще лучше, как-то заметил известный детский писатель. …Лаборатория Дмитрия Крымова уверяют, что линия постановки детских спектаклей будет продолжена. В программке «Своими словами» нам обещают пересказать и «Мертвые души» Гоголя, и «Остров Сахалин» Чехова, и «Капитал» Маркса. А значит, Сретенка еще долго будет оставаться важной магистралью театральной Москвы.
Отношения Льва Толстого и Софьи Андреевны – сюжет, который приносит беспокойство драматургам, сценаристам не в первый раз. Снова потревожены образы старца из Ясной Поляны, его жены, его семьи. Литовский драматург Марюс Ивашкявичус написал пьесу «Русский роман», а Миндаугас Карбаускис поставил ее на основной сцене вверенного ему Театра Владимира Маяковского, призвав в союзники нашего мастера сценографии Сергея Бархина, который предельно освободил пространство от ненужной детализации и скупо обозначил точки действия.
На этот раз написана пьеса о Толстом без Толстого.
Свой ответ на разрыв, который случился в семье Толстых, дает Ивашкявичус.
Однако он пишет не вполне «биографическую» пьесу, задействовав в своей драматургии как реальных, так и вымышленных персонажей из русского романа Льва Толстого, прежде всего «Анны Карениной». В причудливой смысловой связи существуют в пьесе, больше похожей на киносценарий, образы художественные и реальные действующие лица. Русский роман в жизни оказывается не менее, а может быть, и более драматичным, чем русский роман гениального Толстого. В конце концов, не суть, что Каренина бросилась под поезд, а Софья Андреевна, пережив своего великого мужа, по сути, была им брошена и доживала свои дни в одиночестве и забвении. Каренина (Мириам Сехон) по версии Ивашкявичуса предпочла броситься под поезд, чтобы не стать свидетелем изжитой любви. Она не захотела пережить свою отверженность. Надо найти эти силы – уйти из жизни, любя, и остаться любимой. Толстая пыталась вернуть любовь, но чем больше она рвалась к супругу, тем более он удалялся от нее. Для Ивашкявичуса тут нет выхода: куда ни кинь – всюду клин.
Также рифмуется биография и вымысел в сюжете с дневниками. В допросе Кити (Вера Панфилова), который она устраивает Левину (Алексей Дякин) по прочтении его исповеди, легко угадываются переживания самой Софьи Андреевны. Известно, что и молодая жена Толстого не могла спокойно пережить откровения дневника своего мужа. Это знание интимной стороны жизни не помогает браку, а становится причиной, зародышем будущих несчастий. Одна из самых тяжелых невыносимостей для мужчины – контроль не только за его жизнью, но и подотчетность мужа в его нравственных поисках, духовном становлении. Кити не может справиться с женской обидой, доводит до истерики Левина, который готов сжечь свои признания. Но и этого не дает ему сделать жена. Тут Карбаускис решает сцену комически. Кити мечется по сцене, таскает столик, то запихивая, то доставая дневник из столешницы, и по-пионерски использует неосторожный посыл к откровенной ясности его прошлой жизни. Непрост этот выбор: остаться только женой, рожающей детей, оберегающей очаг, или стать идейной соратницей. Попытка Левина терпит крах, и вслед за персонажем Чехова можно сказать: жена есть жена.
С мужиками на покос Левин больше бежит от жены, нежели осуществляет осознанный выбор в духе нравственных исканий Руссо. В спектакле группа косарей, идущих в фарватере Левина, кричит на покосе про свое, Левин в остервенении – про свое. Как тут не вспомнить анекдот литературоведа Эйхенбаума, который в 20-е годы приехал в Ясную Поляну, чтобы собрать воспоминания мужиков о Толстом. Мужики мялись и на вопросы о Толстом не отвечали, а все больше про барыню хорошо говорили. Эйхенбаум отчаялся узнать что-либо. Наконец, мужики созрели и сказали одно: «Противный был мужик».
Режиссер и драматург не позволяют себе ни мелодраматической интерпретации, ни пошлого журнализма, на который провоцирует биография позднего Толстого. Ведь так легко поплясать на костях гения.
Совместить правду с деликатностью очень непросто. Это удается прежде всего благодаря Евгении Симоновой, играющей Софью Толстую. Актриса дождалась роли в родном театре. Ни разу она не позволила себе, играя нервную, неуравновешенную, даже истеричную женщину, впасть в болезненную неврастению, унизить свой персонаж мелкими трактовками в самых непростых сценах, как в схватке с Чертковым, в скандалах с дочерью. Напротив, Симонова играет Софью фигурой, в чем-то равной Толстому. Ведь она готова раньше него уйти и уходит из Ясной Поляны, она обращает свою молитву, чтобы вместе покинуть имение и в счастливом уединении доживать старость. Измученная женщина рисует эту пасторальную картину, когда вокруг нее сгущается ад.
Какая сильная сцена и режиссерски, и актерски, в которой она пытается пробиться к телу умирающего мужа, вокруг которого столпились железной непроницаемой стеной во главе с Чертковым – его играет актриса Татьяна Орлова, и играет точно, остроумно и беспощадно – идейные проходимцы. Толстой для них – предмет для будущих воспоминаний. Они не способны скорбеть, жалеть и оплакивать – они способны только использовать гения.
А что же дети? Любимый Левушка (Алексей Сергеев) увековечивает бессмертие отца за океаном, рассказывая о нем в паузах между выступлениями клоунов и эстрадных артистов.
Софья Андреевна читает письмо сына, полученное из Америки, доживая свой век наедине с собой.
Говоришь «Таня-Таня», и в ушах звенит: «Хорошо!» Оно не столько из пьесы Мухиной, из спектакля Фоменко, сколько из рецензии Марины Дмитревской, из всего нашего театроведческого детства. «Та-та-та-там» (фрагменты из театрально-критической поэмы «Хорошо»). В ушах щелкает: Петербург, Москва, Биберево, Щелыково, Фоменко, Туманов — хорошо!
Там, тогда, вчера, у них было хорошо, а сейчас чего же хорошего?
Затактом фестиваля «Помост», посвященного в этом году спектаклям о войне, то есть затактом войне на сцене, режиссер Денис Бокурадзе показал гостям «мирную» «Таню-Таню», показал выдуманный, театральный рай ‒ не тот, который мы потеряли, а тот, который нам только снится. И этот спектакль в контексте войн прошедших, настоящих и будущих оказался местом внутренней эмиграции, последним укрытием…
«Хорошо в Крыму!» ‒ доносится со сцены, и зал вздрагивает. «Хорошо в Америке!» ‒ и снова в публике шепот. Потому что слово «хорошо» заменило слово «война»: и в Крыму, и в Америке, и в Бибирево, и в каждой голове в зрительном зале и за его пределами поселилась война. А театр упрямо твердит: «Хорошо, хорошо, хорошо».
«Хорошо в Новокуйбышевске!» Так, наверное, могла когда-то сказать Эльвира Дульщикова, переехавшая сюда из Польши и создавшая при местном ДК театр-студию «Грань», то есть превратившая серый промышленный городок в театральную Аркадию. Так теперь ее ученик Денис Бокурадзе и шесть молодых актеров уже профессиональной «Грани» сами создают прекрасный город, с театром, где люди, в головах которых одни сплошные новости и сводки, научаются по-другому дышать, чувствовать, слышать слова, научаются видеть мир глазами влюбленного человека. Кто-то, уверена, скажет: плохо так отгораживаться от реальности. Но тут уже я буду твердить: «Хорошо».
На камерной сцене тетра «Грань» ‒ «кремовый мир». Палитра от бежевого до светло-коричневого и в одежде сцены, состоящей из бесконечных, кажется, занавесов, и в костюмах героев, то растворяющихся, то проявляющихся за этими занавесками выразительными тенями, то вдруг выпархивающих на маленький круглый подиум перед ними.
Спектакль Бокурадзе ‒ это странное лирическое дель арте, у каждого героя здесь свои лацци, свой выразительный пластический рисунок, и каждому отведено время на подиуме ‒ с акробатическим номером, с любовной арией. Шесть героев Мухиной влюблены, но пасьянс никак не складывается, и на подиуме они всегда одиноки, танцуют свои странные танцы, кричат признания в любви. Кажется, имена героев — это их амплуа-маски: Девушка, Мальчик, Иванов, Охлобыстин, Зина. Денис Бокурадзе в своей актерской ипостаси актер характерный, эксцентричный, всегда пластически острый. Режиссер Бокурадзе сообщает каждому образу предельную пластическую и ритмическую выразительность.
Вот Девушка, она же вторая Таня (Любовь Тювилина): гетры, короткая юбка воланами, прыгающая походка, волосы на одну сторону закрывают пол-лица, вся сделана из углов — локти-углы, колени-углы, угол волос разрезает лицо. Мы видим их с Ивановым (Сергей Поздняков) танцующими, видим, как его нелепый танец на мгновение совпадает с ее танцем — Иванову вдруг понадобилась Девушка, ненадолго. А сам Иванов — вялый знак вопроса, неуклюжий Пьеро — полюбился Девушке почти насовсем, как минимум на весь спектакль. Так и будут следовать за ним эти колени и эти глаза — тоскливые, собачьи. А за ней всюду Мальчик (Александр Овчинников), такой же, как она, ритмичный, прыгучий. Под мышкой у него футбольный мяч, а даже если и нет меча, рука отставлена — будто мяч есть. Другая его рука (молчит ли он или объясняется в любви) «читает рэп», а от рэп-ритмичного движения раскачивается все тело. Тело постоянно читает рэп…
А Зина (Алина Костюк) и Охлобыстин (Даниил Богомолов) летают, как весенние птицы — то он за ней, то она за ним. Не мешает этому полету даже неподдельный гипс на руке Алины Костюк. С Зиной, Зиночкой Охлобыстин фат, повеса, ловелас, а вот с Таней (Юлия Бокурадзе), с той самой Таней, вокруг которой всё и все вертятся в спектакле, он готов быть героем драматическим.
Таня всем нужна и Таня для всех невозможна. Среди этих прыгающих и порхающих она — статичная мать-земля, голос ее низкий, грудной, спокойный, взгляд мягкий, задумчивый. Но потом все так перемешается, что завибрирует и она, и Таня станет наливать в рюмку и выпивать крепкий алкоголь, Таня станет уходить от Иванова к Охлобыстину. А безответно влюбленный Мальчик решит жениться на оставленной Охлобыстиным Зине, на Зине, похожей на воробушка со сломанным крылом, но одновременно Мальчик будет обливаться слезами, и это тоже будут как будто его заготовленные лацци. И Иванов будет обливаться слезами, и Охлобыстин, и будут они пить и плакать, и в этот момент придет Дядя Ваня (Денис Бокурадзе). В накладных усах. Он станет вертеть во все стороны озорным глазом. А впрочем, сюжет ведь уже давно неважен, зритель и герои уже задышали в одном ритме и забыли в этих кремовых занавесках обо всем на свете. Они вместе с героями спектакля готовы упиваться слезами своими и любовными страданиями, которые всегда бенефис в отсутствии подходящего визави, всегда театр одного актера на маленьком подиуме в контровом свете. На этом подиуме ты всегда молод и прекрасен, ты немного чеховский персонаж, немного цирковой акробат, и даже если за стенами бьет набат, будешь упрямо твердить: хорошо в Крыму! хорошо в Биберево! хорошо в Америке!